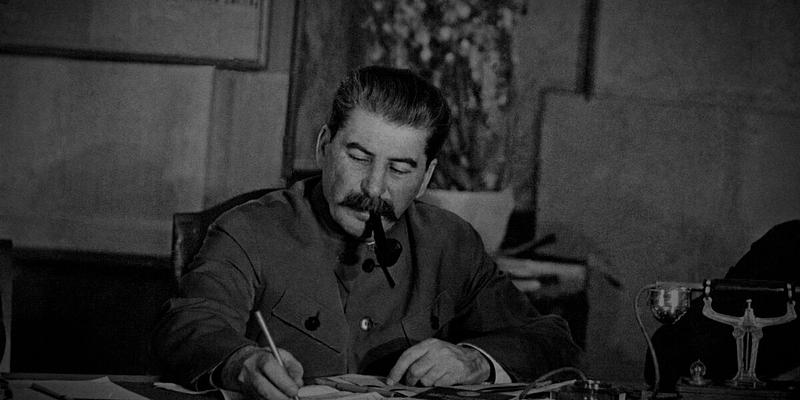Ну, это дилогия такая, две статьи: одна посвящена анализу «Евгения Онегина», а вторая — пушкинской лирике. Ну и автор попутно разбирается с Белинским. Я не считаю, вообще-то говоря, Белинского сильным критиком. Пусть меня простит любимый и родной МГПИ, ректор которого… то есть декан филфака которого, Головенченко, в оные времена был главным популяризатором Белинского, поэтому с тех пор что для матери, что для Кима Белинский — хороший критик. Наверное, Белинский хороший критик, но мне он всегда представлялся довольно скучным, недальновидным, компилятивным. И вообще мне кажется, что человек, который не ценит фантастического в литературе, говорит, что «ему место в домах умалишённых», он в литературе мало понимает. Писарев относился к нему трезво и о его заблуждениях и о его прозрениях писал уважительно.
Что касается Писарева как критика. Я считаю его… Что хотите, со мной делайте. Я считаю его лучшим русским критиком. Во-первых, он глубже всех понял «Евгения Онегина». Он просто думал, что для Пушкина Онегин — это позитивный, любимый персонаж, а он ненавистный. Поэтому всё, что он написал об Онегине как человеке — «человек безнадёжно пустой и совершенно ничтожный» — это золотые слова, абсолютно точная интерпретация романа. Он всё там понял, все намёки замечательно понял.
Но главное, критик… Я помню, как Владимир Новиков нас этому учил на факультете: критик — это тот, кто хорошо пишет. В идеале — смешно. А если не смешно, то по крайней мере аналитично, точно, ярко. Статья Писарева «Мотивы русской драмы» — безусловно, лучшее, что написано о «Грозе». «Старое барство» — один из лучших разборов первого тома «Войны и мира». Я уже не говорю о том, что статьи его о Некрасове… то есть, простите, о Тургеневе, «Нигилисты» и «Реалисты», и его замечательный первый разбор героя… Тьфу! Ну, даже не героя, а контекста, точнее, в «Отцах и детях». Героя, самого Базарова, он проанализировал с удивительной точностью. И правильно он пишет в письме к Тургеневу: «Неужели вы думаете, что первый и последний Базаров умер в Орловской губернии от пореза пальца?» Конечно, Базаров не умер. И то, как он прослеживает развитие типа, когда пишет о Помяловском, когда пишет о «Молотове», о «Мещанском счастье», когда он говорит о Достоевском, кстати, и о его героях. Он, безусловно, проследил развитие типа русского сверхчеловека, и проследил его очень точно.
Когда вам будут говорить, что Писарев был душевнобольным — не верьте. Наверное, у него были определённые проявления патологические. Немудрено, что они были, но они были жёстко отрефлексированы. Помните, как в том же знаменитом последнем письме к Тургеневу он пишет: «Сейчас всё моё существо слишком потрясено переходом к свободе». Ну, слушайте, человек четыре года отсидел за статью «О брошюре Шедо-Ферроти». Все лучшие его тексты написаны в Петропавловской крепости. И утонул ли он потом, или это было самоубийство, или, как предполагал Лурье, это был кататонический приступ — мы сейчас не можем сказать.
Но сама трагичность, краткость этой судьбы, триумфальность его стиля, удивительная убедительность его разборов, тонкость его психологического понимания, несмотря на, казалось бы, абсолютно эмпирическое и сугубо материалистическое мировоззрение,— всё это делает его крупнейшим мыслителем своего времени. Да, он, может быть, придавал слишком большое значение «презренной пользе», но как критик он гораздо шире своей эстетической программы и благосветловского довольно радикально материализма. Он действительно серьёзный писатель. Программой «Дела», его журнала, он далеко не ограничивается.
И потом, понимаете, Писареву случалось заблуждаться. Например, его статья «Цветы невинного юмора», в которой он разбирает щедринскую «Историю одного города», свидетельствует о таком совершенно бараньем, туповатом непонимании этой вещи. Ну не умел он это читать! Не умел он считать в «Истории одного города» её, так сказать, метафизический слой довольно мощный. Это бывает, да. Ему показалось, что Щедрин больше умиляется Глуповым, чем критикует его. Кстати, момент умиления там есть — в сцене пожара, например. Ему жалко глуповцев, чего уж говорить.
Но заблуждения Писарева… О заблуждениях мы легко можем судить, «как будто в истории орудовала компания троечников», как сказано в фильме «Доживём до понедельника». Заблуждения Писарева не должны от нас с вами заслонять то, что его приятно читать. Понимаете, вот эти четыре синих писаревских тома, где собрано почти всё лучшее, на которых я вырос, в общем, потому что мне безумно увлекательно было это читать в своё время,— это очень серьёзный этап (чтение этих томов) в жизни многих молодых филологов, того времени во всяком случае.
В письмах Нади Рушевой, в её переписке, напечатанной в «Юности», я помню восторг по поводу того, что «Писарев разделывает его под орех — совсем не то, что говорят в школе» («Евгения Онегина»). Но он не разделывает, это просто более глубокий уровень понимания романа. И поэтому Писарев не развенчивает Пушкина. Писарев, если угодно, добавляет новые листы в его лавровый венец. И это, конечно, удивительно, что действительно Господь открывается не искавшим его.