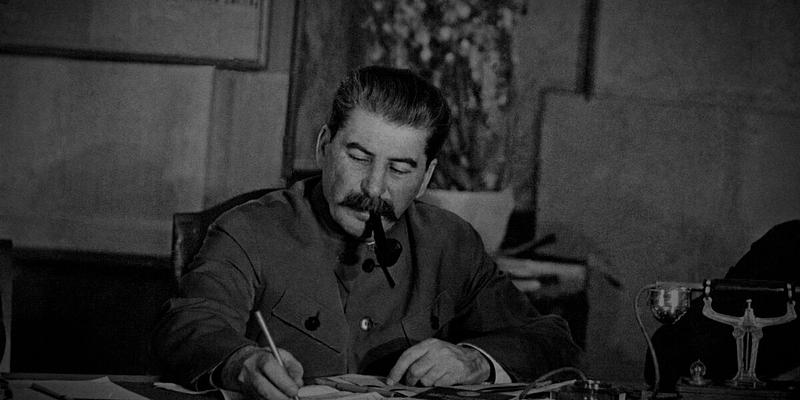Я ставлю этот спектакль, правда, теперь неизвестно, кто и когда его увидит. Но мы все репетиции провели. У меня есть такая своя концепция: все четыре «маленьких трагедии» — это, в сущности, вариация на одну тему. И я предполагал это ставить с двумя главными исполнителями, потому что противостояние молодости и старости, весьма актуальное для пушкинской зрелости, было там ключевым. Альбер и Барон в «Скупом рыцаре», Дон Гуан и Командор в «Каменном госте», священник и Вальсингам в «Пире во время чумы», Моцарт и Сальери в «Моцарте и Сальери». Вот этот стык — старость и молодость, скупость и расточительность, скорбь и веселье, щедрость и зависть, условно говоря,— так сошлись причудливо, и амбивалентность этих пьес в том, что их можно сыграть и прямо противоположным образом. Альбер, скажем, может быть совершенно омерзителен, а Барон по-своему поэт, и для меня Барон, произносящий монолог над своими сундуками,— это поэт над собранием своих текстов. Потому что пока другие жили, он копил, он собирал эти моменты жизни; каждая слезинка, там собранная, каждая строчка — это результат накопительства. Он рыцарь, но он скупой; он скуп, потому что так собирает, так коллекционирует жизнь.
«Моцарта и Сальери» можно сыграть совершенно противоположным образом. Можно сыграть страшного Моцарта, который издевается над Сальери и провоцирует его. Дон Гуана можно сыграть омерзительным типом, совершенно растленным. Противостояние священника и Вальсингама можно решить совершенно иначе. То есть амбивалентность этих текстов для меня очевидна, она входит в авторскую задачу, тем более что название каждой пьесы — оксюморон. «Пир во время чумы», «Каменный гость» (не может гость быть каменным, он не ходит), «Моцарт и Сальери» (такая контраверсия), «Скупой рыцарь»,— на этой амбивалентности надо все строить.
Что касается «Пира во время чумы», то здесь как раз наиболее важна для Пушкина тема двух возможных преодолений трагедии. Есть способ священника — способ религиозного служения. Есть способ Вальсингама — способ оргиастического, во многих отношениях гениального самозабвения. В русской поэзии нет более мрачных и более чеканных строк, чем: «Итак,— хвала тебе, Чума!». Эти четыре ямбических удара, в каком-то смысле повторяющих державинское: «Глагол времен! Металла звон!».
Итак,— хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье,—
Быть может, полное Чумы!
За кем же здесь моральная правота? Как ни странно, моральная правота за Мери. Точно так же, как в противостоянии Лаевского и фон Корена моральная правота за дьяконом, который и олицетворяет собой милосердие и сострадание, условно говоря, третий путь, понимаете? Его нет в «Моцарте и Сальери», его нет в «Скупом рыцаре» (Герцог — не в счет, какой там у Герцога третий путь?), его нет в «Каменном госте» (не Донна же Анна, верно?), а вот Мери, и вечная недооценка песни Мери, которая казалась такой слабенькой на фоне потрясающего гимна Вальсингама, а вот пришел Шнитке и сделал из не абсолютно гениальное музыкальное произведение. Я без слез это слушать не могу, я сейчас все время кручу эту запись.
Надо сказать, что когда в литературном кружке (в ЛИТО) Глеба Семенова кто-то умирал, то на похоронах всегда они ставили вот эту из фильма Швейцера 1979 года, из «Маленьких трагедий», колокола и лютни, эту потрясающую песню Шнитке:
Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресение бывала
Церковь божия полна;
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.
Я помню, как на похоронах Слепаковой, на поминках тоже заводили кассету, она хранилась у нее. Потому что Слепакова была такой хранительницей традиций семеновского ЛИТО, и на похоронах самого Семенова тоже, когда собрались все его ученики (он был главный учитель ленинградских поэтов), все они слушали «Было время, процветала в мире наша сторона». Это действительно такой гимн, тоже гимн. Там сказано: «Благодарим, задумчивая Мери, благодарим за жалобную песню!». Она не жалобная, она невероятно мужественная:
Я молю: не приближайся
К телу Дженни ты своей,
Уст умерших не касайся,
Следуй издали за ней.
Я думаю, что величайший музыкальный подвиг Шнитке именно в этом. Я вообще считаю его гениальным композитором, я очень люблю все им написанное: им «Concerto Grosso», конечно, и «Бал», конечно, вальс из «Экипажа» вообще мне кажется лучшей русской музыкой. Господи, а «Gross Vater» какой в «Царе Петре» («Как царь Петр арапа женил») . Я считаю, что невзирая на то, что эту картину считали неудачей, я считаю, что там он прыгнул выше головы. Потому что это такой Отелло наоборот, вернее, приквел к «русскому Отелло», вот уж где она его полюбила за муки. Но мне кажется, что абсолютно музыка Шнитке в «Маленьких трагедиях». Он целомудренно воздержался оттого, чтобы омузыкаливать великий гимн Вальсингама, он там просто дан речетативом (Трофимов его читает), но потрясающе совершенно сделана песня Мери. Стихи Пушкина раскрылись по-настоящему благодаря этой гениальной, трагической и, как ни странно, торжественной мелодии. Понимаете, могла бы быть просто скрипочка, волынка, а ведь это лютня и колокола. Вот и там потрясающее самоотречение:
И когда зараза минет,
Посети мой бедный прах;
А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах!
Тут очень важно, что если чума — предмет хвалы и восхищения у Вальсингама (восхищение черное, но все-таки), то у Мери — бесконечная неприязнь, «зараза минет», омерзение к чему-то, что посягнуло на человеческое чувство, на человечность; на такую сложную и прекрасную, такую редкую вещь, как любовь, посягает такая ерунда, как чума,— мерзость какая-то; паразит, в крови живущий. И никакая масштабная эпидемия не сделает масштабной чуму, не сделает вирус великим. Вот в этом-то, собственно, и величие «Пира во время чума»: в нем, помимо впервые явленного противоречия двух подходов к жизни, дан третий вариант, вариант смирения:
Сестра моей печали и позора,
Приляг на грудь мою.
Это лучшее, что можно сказать на чумном пиру. Я думаю, что озарение, которое Пушкин пережил в Болдине, сочиняя эту вещь, несравнимо ни с чем в русской истории. Хотя, кстати, очень интересное наблюдение Якобсона, которое необходимо было бы развить: почему во время болдинских периодов у Пушкина написаны все три ключевых текста об ожившей статуте: «Медный всадник», обработанный в Болдине; «Золотой петушок» и «Каменый гость». Видимо, Болдино с его темой уединения, пограничья как-то располагало к трансформации вот этой именно темы и к ее развитию. В любом случае, для меня, конечно, лучшее, что написал Пушкин, высший взлет его дарования,— это именно «Маленькие трагедии», и, прежде всего, вот это самое.