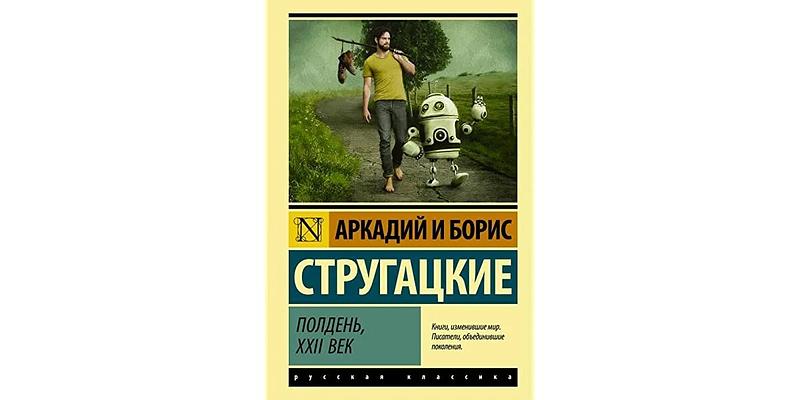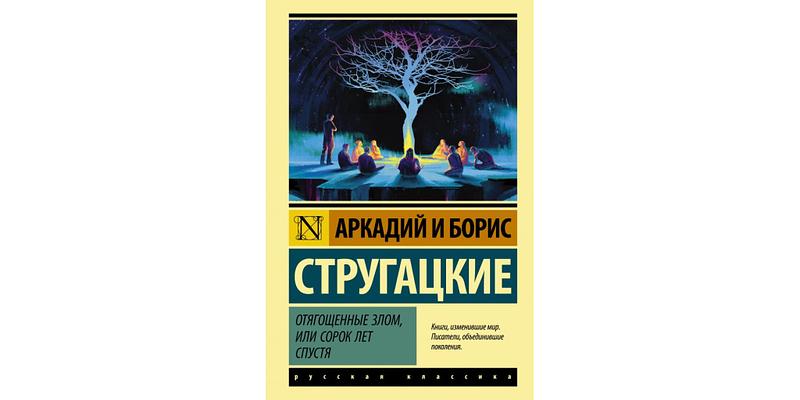Видите, мне представляется, что этот фильм несет в себе, безусловно, авторскую агрессию, авторское разочарование в людях, поэтому вызывает такую встречную реакцию. Как сказал однажды Марголит: «Я чувствую, как этот фильм меня в себя не пускает». Меня он тогда пускал, потому что совпал с внутренней эмоцией, с моим внутренним ощущением, поэтому, когда я его посмотрел, у меня было чувство лопнувшего нарыва. Я помню, что я по этому коридору Ленфильма, где там показали первую сборку, просто бежал вприпрыжку от счастья, у меня было чистое чувство счастья оттого, что при мне произошло это событие, что оправдана моя жизнь и жизнь других людей, потому что это случилось при нас: великое кинособытие.
Фильм Германа отражает разочарование, и потом это стало общим местом, но он его выразил первым. А если бы фильм вышел тогда, когда был сделан, закончен (в 2010 году), я думаю, это было бы и свежее, и сильнее. Вот это ощущение от того, что базовая теория оказалась неверна: мы летим и видим замки, думаем, что Возрождение, а прилетаем и видим: замки есть, а Ренессанса нет. Вот в этом и дело, что возможен мир, в котором базовая теория неверна или отсутствует; мир, в котором культура упразднена, и главное, что человек не хочет эволюционировать, не хочет развиваться в сторону человека воспитанного. Разумным он стал, даже можно сделать его образованным, даже умелым можно. А вот воспитанным — никак, не хочет он эволюционировать, теория воспитания не работает. Я думаю, что последние двадцать лет российской истории (да и мировой) были временем огромного разочарования в человечестве, сравнимом, наверное, только с разочарованием в просвещении после Великой французской революции. Потому что именно тогда идея Руссо насчет «нормальных условий для нормального человека» или того, что человек по природе добр,— эта идея была радикальным образом скомпрометирована.
Я думаю, что рефлексия на эту тему содержится только в одном романе Павла Когоута «Палачка», который у нас как-то недооценен из-за своей остросатирической направленности, из-за своего садического содержания. Это жестокий роман и патологический во многих отношениях. Но тем не менее роман Когоута прямо констатирует (там профессор Влк произносит эту замечательную тираду), что французская революция была актом глобального разочарования в человеке: людям оказалось гораздо интереснее смотреть на публичные казни, чем созидать справедливое общество. XXI век — это век глобального разочарования, и фильм Германа — это первая картина, в которой это разочарование в человечестве отражено.
У Стругацких в «Трудно быть богом» эта идея пока еще под вопросом, она сформулирована («после серых приходят черные»), но она как бы отрицается, а между тем это довольно мрачный роман, потому что Румата… Действительно, видно там, где он прошел. Румата отвечает этому миру единственно возможным образом — огнем и мечом. Это единственное, что с ним можно сделать. Герман пошел еще дальше: он подумал, что у Руматы есть путь Христа: он может погибнуть на глазах у этих людей, и этим чему-то их научить, но это единственное, что он может сделать. Ни образование, ни какие-то другие там паллиативные методы не срабатывают, это все косметика.
Кстати говоря, почему главным героем второй половины XX века стал разведчик? Ведь сцена, когда Румата Эсторский беседует с Будахом практически буквально воспроизведена в беседе Штирлица с пастором Шлагом. И когда Мюллер перечисляет операции, которые Штирлиц провалил,— это дон Рэба перечисляет операции, которые провалил дон Румата, которые для него подозрительны. Почему? Да потому что для второй половины XX века более характерна вот эта фаустианская коллизия, когда Мефистофель посылается на землю, чтобы спасти немногих. Мефистофель посылается испытать или оказать покровительство Фаусту, будить его дух, дон Румата отправляется в Арканар спасти Будаха или дона Кабани, немногих умников и книжников, а Штирлиц посылается спасти пастора Шлага.
И он выходит действительно таким не победителем, нет, эвакуатором, потому что задача Мефистофеля — покровительствовать немногим умникам, спасать мир в целом совершенно безнадежное занятие. Ну не может Штирлиц спасти нацистскую Германию, не может Румата Эсторский спасти весь Арканар. Все, что может делать Румата,— это эвакуировать немногих счастливцев. Кстати говоря, этим же и занимались строители и покровители шарашек в России 40-50-х годов, именно поэтому «Фауст» — самый актуальный текст для сталинской России.
И я думаю, что фильм Германа, который постулировал эту мысль — «Арканар спасти нельзя, но можно кого-то вывести из Арканара»,— это такая новая фаустиана. Меня сейчас занимает другая проблема: а что делать с тем Будахом, который отказывается работать с этим Фаустом? Что делать с Кондратюком, который отказался работать в туполевской шарашке? Он же был прав, наверное. Это очень глубокая мысль: конечно, ничего не просите у тех, кто сильнее вас; конечно же, сами придут и все дадут. Но главное: и тогда не берите, потому что фаустиана — это история великого соблазна. Что же делать с Будахом? А Будах там и говорит: «Тогда, Господи, убей нас». А тот отвечает: «Не могу, потому что сердце мое исполнено любви и сострадания». Обожаю эту картину и обожаю ее за горько-сардоническую, кисло-горькую интонацию, за ее потрясающую насмешливость, едкую иронию, за роль Ярмольника, которой он купил себе бессмертие, за великую, действительно, боль и ненависть, которая продиктовала этот фильм…
А если кому-то кажется, что он трудно смотрится — понимаете, после третьего просмотра уже все трудности исчезают: он понятен, он слишком понятен. А вот эмоционально он грандиозен, конечно. И особенно мне нравятся оттуда некоторые цитаты: « — Между прочим, я из так называемых культурных людей. Я окончил так называемый университет.— Я сейчас здесь всех убью, а тебя, студент, первого». Ужасно нравится. Говорят, Ярмольник сам это придумал на съемках.