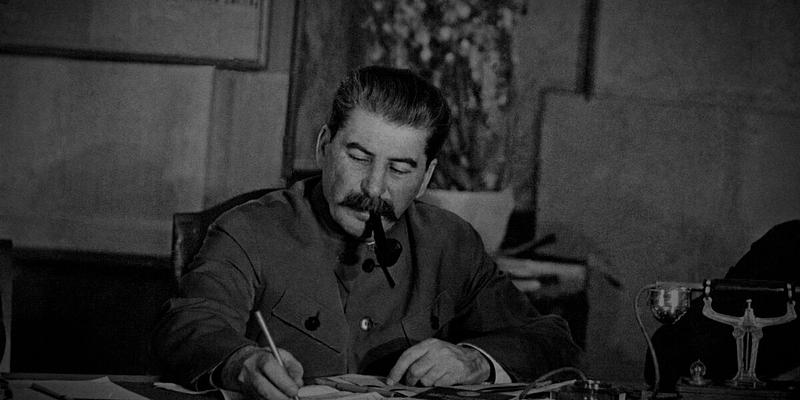Понимаете, Толстой любил Фета. И это очень понятно: это относится к тому же противоречию между риторами и трансляторами. Идти изнутри или сочиняться — это он так по-своему по-толстовски довольно грубо выражает разницу между поэзией чувства и поэзией ментальности, поэзией мысли. Ему хочется, чтобы поэзия была не от мысли, а от интуиции, чтобы она не рассказывала, а транслировала, и так далее. Поэтому его интерес к Пушкину — это чистое чудо гармонии, а не чудо мысли, как, скажем, в «Полтаве». И он любит у Пушкина более вещи лирического плана, а не философского. Некрасов ему враждебен именно потому, что ему кажется, что это просто проза, изложенная вычурно. Он же говорил: «Писать стихи — это все равно что пахать и за сохой танцевать». Этого чуда некрасовского, этого стыка прозы и поэзии и искры, которая на этом стыке высекается,— этого он чувствует, но что поделать — у каждого свои эстетические потолки. У Толстого было такое понимание.
Он, например, в своей статье «Что такое искусство» разбирает гениальные «12 песен» Метерлинка — изумительные, хрупчайшие, нежнейшие — и начинает их подвергать такому грубому, очень рациональному, кстати, неожиданно анализу. Кто ушел, кто пришел, кто рассказывает, кто умер. То есть он к восприятию интуитивной символистской поэзии тоже был далеко не всегда готов и предъявлял к ней совершенно неуместные рациональные претензии. Толстой был субъективным и пристрастным читателем, как и все гении, но он дорог нам не этим.