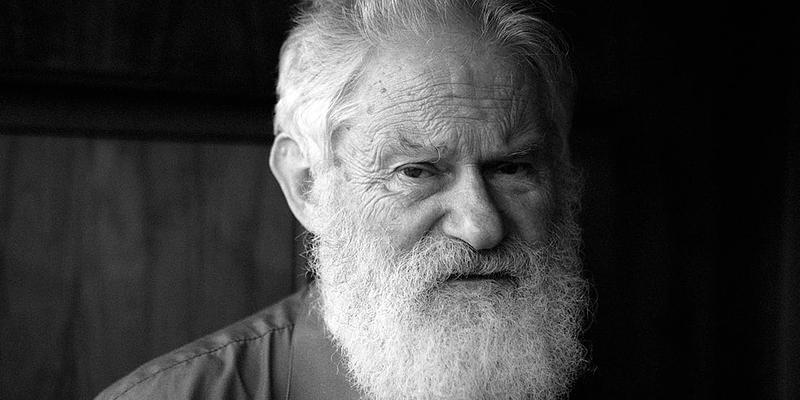Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.
Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры…
…Все злей и свирепей дул ветер из степи…
…Все яблоки, все золотые шары.
Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, -
Сказали они, запахнув кожухи.
От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.
Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.
У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.
(невозможно, все равно буду реветь)
Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.
Это 1947 год, Пастернаку 57 лет. Написано это стихотворение за 40 минут, когда на дне рождения жены Ливанова. Кстати, он тоже получил благословение Пастернака: в 1934 году, когда Ливанов с ней познакомился, они сидели в ресторане во время писательского съезда, он благословил этот брак. Ему Катя очень понравилась. А потом, значит, 13 лет спустя, на дне ее рождения, когда все вышли курить, он за 40 минут набросал черновик стихотворения.
Такие бывают, знаете, вещи; бывают такие припадки невероятного вдохновения, когда вещь как будто целиком продиктована от начала и до конца, и здесь отчасти понятно, почему это получилось. Не только божья помощь, понятное дело, а прежде всего ощущение готовой формы. Когда форма придумана, когда она нащупана, по ней уже катится творческий процесс сам, как по рельсам.
Знаете, у Пастернака огромную роль в стихотворении играл всегда семантический ореол метра. И для него наличие размера нащупанного значило уже очень многое, потому что он — музыкант, и для него звук значим. И как только найдет ритм, найдена вот эта строфа с опояской, опоясывающей длинной строчкой, когда ей промежуточны короткие, — так вот, как только найдена форма, ей отливается чувство немедленно само.
Это стихотворение очень кинематографично, его можно экранизировать, можно клип на него снять. Например, очень кинематографичен эпизод с ангелами: «Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы». Тут дело в том, что появляются в стихотворении неизбежные и незримые сущности. Если бы не это, если бы кто-то не входил в их ряды, если бы бог не смотрел на все это, то стихотворение не имело бы той силы пронзительной. Здесь самое главное — смена оптики, которая происходит постоянно.
Сначала — это пустынная местность, причем место зимнее. И в этом смысле Пастернак, как часто у него бывало, продолжает традицию Льва Толстого, чрезвычайно ему близкого, виденного им в детстве неоднократно, когда его отец работал над иллюстрациями к «Воскресению». Для Пастернака Толстой — учитель веры, и та вера, о которой Толстой писал, вера русская, православие без чудес, на одной этике, — может быть, оно художественно не так убедительно, но с другой стороны, оно близко русскому читателю. Мы понимаем, что поле в снегу и погост — это не пейзаж пустыни, это не имеет никакого отношения к бегству в Египет, но для Пастернака естественное всего всемирность, и он пытается этот пейзаж изобразить как всемирный. И отсюда толстовские вкрапления — погост, сено, труха. То есть реалии русской крестьянской жизни, которые и делают это стихотворение столь универсальным.
Ведь когда мы у Толстого в его синтетическим Евангелии, сделанном из четырех, в Евангелии без чуда, читаем массу таких простейших сельских реалий — это на нас тоже действует, эта толстовская оптика и приближает нас к всемирной, это она и делает нас соучастниками евангельской истории. Но, конечно, еще важнее здесь вот эта пастернаковская интонация детского чуда, детского ожидания чуда. Кстати говоря, ведь очень по-детски сказано: «Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть было видно отлично отсюда». Он как бы успокаивает: не волнуйтесь, все будет видно. Он показывает вертеп, показывает рождественскую драматургию, и все время это интонация детского придыхания, счастливого, восторженного.
Дело в том, что Рождество, в отличие от Пасхи, — это самое безоблачное событие. Казалось бы, оно в очень трагической обстановке происходит. Оно происходит после избиения младенцев, точнее, оно происходит после самого мрачного пророчества на эту тему, скажем так. Оно происходит во время, когда Ирод, помните: «Когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме» (у того же Пастернака). Оно происходит, когда ангел увел святое семейство в Египет. Оно происходит на фоне тотальной враждебности мира, потому что они среди чужих. Более того, они в хлеву, среди ледяной ночной пустыни. «В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре», как у Бродского. На фоне тотальной злобы и безнадежности все равно это событие счастливое, потому что это событие чуда. Чудо нарушает логику жизни.
Понимаете, вот я думаю, что самое религиозное, без чего невозможно понять христианскую веру, — это понятие чуда. Пастернак много думал об этом и тем же размером написано стихотворение «Чудо», которое является своеобразной двойчаткой к «Рождественской звезде» и продолжает его тему. Это жестокое чудо, конечно, как у Лема «Время жестоких чудес». Помните, вот это:
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.
Дело в том, что чудо нарушает логику, нарушает земной порядок, порядок вещей. Я, кстати, думаю, что два лучших русских религиозных стихотворения, именно евангельских — это «Бегство в Египет» Заболоцкого и «Рождественская звезда» Пастернака. И они написаны почти одновременно. Дело в том, что 1947 год — это год предельного сгущения зла, но и это еще ощущение, что зло это выдыхается, что у него нет ресурса, что это самая темная ночь перед рассветом, что это зло ничего не может предложить, кроме избиений. Вот это «когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме». И у Заболоцкого, который вернулся из заключения, никогда не восстановился вполне, всегда носил в себе самую страшную память… Вообще он был, конечно, другим человеком. Я думаю, что это поэт, абсолютно лишенный ощущения праздника. Так вот, у Заболоцкого в «Бегстве в Египет» возникает ощущение милосердия; не чуда, а внезапной милости.
Вскрикнул я и пробудился…
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.
Я по памяти цитирую — вот эта мысль о жене. Я думаю, что для Заболоцкого и для Пастернака Рождество дорого именно тем, что это вторжение чего-то совершенно иноприродного — милости, сострадания — в то, что для Заболоцкого символизирует тогдашняя Иудея:
Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень распятого в горах.
Это тень из будущего, это страшное будущее ложится, но все равно есть ощущение чуда. Кстати говоря, тот размер, которым написано «Чудо» — четырехстопный амфибрахий — это один из самых счастливых, как ни странно, размеров русской литературы. Им написаны не только трагические стихи, такие, как «В песчаных степях аравийской земли…» («Три пальмы» лермонтовские), но им написаны и праздничные, ликующие вещи, прежде всего такие, как «Рождественская звезда». Потому что сам этот размер — «накат, удар, откат» (такова его схема метрическая, когда текст катится как волна, бьющая об стену) — это само по себе напоминание о ненапрасном, вечном, бесконечном усилии. И я думаю, что сам размер этот — четырехстопный амфибрахий — это размер преодоления, размер торжества.
Хотя есть масса трагических текстов, им написанных, возвращаясь к тем же «Трем пальмам». Или у Матвеевой «Сухие кусты» — такая версия «Трех пальм», переписанная более жизнеутверждающе, в мажоре. Помните:
— Молчи! —
отвечает рассерженный куст, —
Я беден?
Пожалуй.
Я голоден?
Пусть.
А что до воды — мне довольно и той,
Которую ты не считаешь водой.
Это тоже ощущение победы среди ужаса, победы среди безверия. И, собственно говоря, праздник Рождества потому и воспринимается как светлый, потому что оказывается, что с рождением божественного младенца ничего невозможно сделать.
Я очень далек от оптимистической оценки казахстанских протестов. Я прекрасно знаю, что во время этих протестов очень много уголовщины хлынуло на улицы и было очень много мародерства. Вообще, попытки отождествить свободу с мародерством были, есть и будут всегда. Но когда среди безнадежной диктатуры кто-нибудь да поднимает голову — это все равно всегда вызывает надежду. Когда среди безнадежной злобы и зверства кто-нибудь смилуется над кем-то — это всегда вызывает надежду. И уж конечно, когда среди нынешней России кто-то празднует Рождество и читает Пастернака, — тоже возникает ощущение какой-то неубиваемости. При всей своей пресловутой неприспособленности к жизни, при всей своей надмирности Борис Леонидович оказался самым живучим русским поэтом именно потому, что мы всегда в Рождество будем вспоминать Пастернака. Это стихотворение как-то к Рождеству умудрилось пристать навеки, как свет звезды пристает к звезде, как луч звезды не может от нее оторваться. И в этом смысле, конечно, пастернаковская победа чрезвычайно ощутима.
Заболоцкий, на которого это стихотворение чрезвычайно повлияло. Оно ходило по Москве в списках, было широко известно, как и многие стихи из романа. Хотя, конечно, при советской власти его, насколько я помню, не печатали, а если и печатали, то вне романного корпуса. Но оно входило тогда в раздел «Стихов из романа». Я не помню, честно говоря, было ли оно в однотомнике «Библиотеки поэта» 1965 года, но если не было, то это, конечно, одно из преступлений цензуры. Надо проверить.
Я только знаю, что Заболоцкий, когда прочитал это стихотворение, сказал: «Его надо повесить на стенку и каждый день снимать перед ним шляпу». Это потрясающее признание для поэта, который вообще-то Пастернака недолюбливал. Но именно он сказал о Пастернаке: «Выкованный грозами России собеседник сердца и поэт». Я не уверен, что «выкованный грозами России» (может быть, грозы эти ему и повредили), но нельзя не сказать того, что это собеседник сердца. И сейчас, когда мы это стихотворение перечитываем в довольно, прямо скажем, мрачные, довольно кислые времена, когда с любым из нас можно сделать все, что угодно, — давайте вспоминать, что христианство все-таки в мире восторжествовало, невзирая на самые темные века, невзирая на Рим, невзирая на всех врагов, этому мешавших. Прекрасно оно себя чувствует. И пока живы в человеке его человеческие стремления — к свободе, к милосердию, к искусству — как-то ничего ему не сделать.