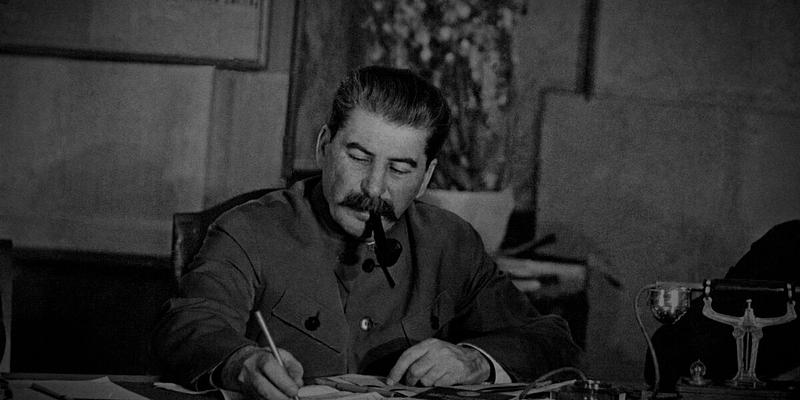У меня есть большая лекция «Маленькие трагедии». Собственно, особенность «Маленьких трагедий» в чем: это такой групповой автопортрет. Они — пушкинский самоотчет перед женитьбой, перед концом определенного этапа жизни, теперь мы уже можем сказать, что главного и счастливейшего этапа. Это вершина его зрелости, и все эти тексты являют собою автопортреты. «Моцарт и Сальери» потому, что в Пушкине жил Моцарт, но жил в нем и Сальери, который «музыку разъял, как труп». Жил в нем и человек, наблюдающий Моцарта со стороны. Больше вам скажу, «Маленькие трагедии» можно все — вот это их отличительная черта — их можно все сыграть абсолютно разным образом, двояким как минимум.
«Скупой рыцарь» можно сыграть как драму Альбера, а можно как трагедию барона. Дело ведь в том, что в бароне есть сильнейшая внутренняя линия. Ведь Пушкин здесь больше о себе говорит, чем в молодом сыне. Скупой отец и молодой, страстный сын — это, конечно, драма и пушкинской жизни, скупость Сергея Львовича была общеизвестна. У меня есть большая, в принципе, много раз читанная лекция про «Маленькие трагедии». Последний раз читал её в театре Фоменко, бог даст, повторю еще. Собственно, особенность «Маленьких трагедий» в чем: это такой групповой автопортрет. Они — пушкинский самоотчет перед женитьбой, перед концом определенного этапа жизни, теперь мы уже можем сказать, что главного и счастливейшего этапа. Это вершина его зрелости, и все эти тексты являют собою автопортреты. «Моцарт и Сальери» потому, что в Пушкине жил Моцарт, но жил в нем и Сальери, который «музыку разъял, как труп». Жил в нем и человек, наблюдающий Моцарта со стороны. Больше вам скажу, «Маленькие трагедии» можно все — вот это их отличительная черта — их можно все сыграть абсолютно разным образом, двояким как минимум.
Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Сырого мяса, яиц гнилых,—
Так приходи со мной обедать
Сегодня у твоих родных.
Но при всем при этом Пушкин есть и в бароне. Помните, «послушна мне, сильная моя держава»,—лучшие годы жизни он отдал тому, чтобы копить эти драгоценности чужих слез, чтобы писать… Барон над сундуком драгоценностей — это Пушкин над томами своих сочинений. Жизнь он отдал на то, чтобы собирать чужие слезы, чужие страдания, чужие радости. И в нем «послушна мне, сильна моя держава»,— вот это же я как полководец. Эта внутренняя линия есть и в «Домике в Коломне»:
А стихотворец… с кем же равен он?
Он Тамерлан иль сам Наполеон.
Так и здесь он себе говорит о себе, как о полководце, который, как над своими солдатами, нависает над этими сундуками. Это первый автопортрет.
Второй автопортрет, который подробно прослежен у Ахматовой, это Дон Гуан, или Каменный гость. Где Дон Гуан — крайне амбивалентный образ. Можно сыграть его как злодея, мерзавца, а можно как поэта. И у меня всегда была идея поставить страшного, такого омерзительного Дон Гуана, фальшивого пошляка, ведь у него пошлость в каждом слове. «Так, разврата я долго был покорный ученик». То, как он соблазняет донну Анну, это, прежде всего, пошлятина страшная, но он при этом верит. И их желание заняться любовью при покойнике, ведь их это безумно возбуждает, и его, и Лауру: «Скажи… Нет, после переговорим». Я думал так это и поставить: как они раздеваются, и на этого покойника бросают свою одежду, женское белье, принаряжают его, глумятся над этим трупом, и это их дико заводит, дико возбуждает их. В «Каменном госте», конечно, есть попытка перевязать узлы своей жизни, и есть двойной автопортрет: Пушкин — это и Дон Гуан, и статуя Командора. И двояко можно это играть.
«Моцарт и Сальери». Можно сыграть это как историю о страшном Моцарте, как историю о Моцарте, который измывается над Сальери:
Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него «Тарара» сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив…
Я все твержу его, когда я счастлив.
Очень жестко, кстати. Моцарт же издевается над ним. «Ах, правда ли, Сальери»,— этак виляя пальцами,— «что Бомарше кого-то отравил?» Сальери:
Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.
Моцарт:
Он же гений.
Как ты…
А потом, так снисходительно:
…как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?
Это же сцена издевательства страшного, а не поддавков. И поэтому её тоже можно играть двояко.
И вот в «Пире во время чумы» тоже двойной автопортрет. Рассадин, анализируя фильм Швейцера, совершенно справедливо замечал, что у Пушкина гимн чуме зажат между песней Мери и появлением священника. А у Швейцера все заканчивается этим триумфальным гимном, он ставит точку. Есть точное мнение Цветаевой, что лучшие стихи, когда бы то ни было написанные по-русски, где уже чувствуется дуновение звездных вихрей,— это «Гимн чуме», который написал Председатель. Там же противопоставлены два вставных номера: песня Мери («Благодарим, задумчивая Мери, благодарим за жалобную песню!») и песня Председателя. Песня Мери стихотворна очень обыкновенна. Она не слаба, у Пушкина нет ничего слабого, но она обыкновенна. То есть там нет ощущения какого-то сверхъестественного свершения. Она стала шедевром, когда на нее написал музыку Шнитке. И вот эта арфа, лютня и колокол, но «Было время, процветала в мире наша сторона» стала шедевром после того, как Шнитке это омузыкалил, и Швейцер это снял. И гениальная актриса, которую сейчас я не вспомню, потом посмотрю. Рано умершая, с этим отпечатком ранней смерти на прекрасном некрасивом лице это спела. Вот тогда это стало признанным шедевром. А так, конечно, до музыки Шнитке этот номер сильно проигрывал гениальным стихам председателя.
Председатель, который действительно, наверное, гений от бога, потому что «странная нашла охота к рифмам», и он написал лучшее стихотворение Пушкина. Он пишет такой бесспорный шедевр. Для меня просто всегда наслаждение произносить это вслух.
Когда могущая Зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов,—
Навстречу ей трещат камины,
И весел зимний жар пиров.
Царица грозна, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой…
Что делать нам? И чем помочь?
Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы…
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья может быть залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
Итак,— хвала тебе, Чума,
Вот эти 4 ямбических удара, прямо адресующихся конечно, к «Глагол времен! Металла звон!»
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье,—
Быть может, полное Чумы!
Это шедевр, которому равного в русской поэзии нет. Я думаю, только некоторые стихи Блока выдержат, скажем, «Песня Гаэтана», тоже из драмы, выдержат отдаленное сравнение с ним. И этим стихам противопоставлено все главное, что происходит в пьесе. Явление священника, прежде всего. Тут та же амбивалентность и тот же двойной автопортрет. В Пушкине, с одной стороны, присутствует любование смертью. Это Синявский очень хорошо показал в «Прогулках с Пушкиным», вот эта вампирическая тяга к смерти, к запредельности. Тяга к максимально полным ощущениям, а максимально полным ощущением, к сожалению, является переход за границы всего земного, за границы жизни.
И вот, с одной стороны, Вальсингам, председатель, с его пирами посреди чумы. А с другой стороны священник, а с другой стороны задумчивая Мери, которая пытается напомнить о ценностях сострадания, о ценностях простой сельской любви.
И когда зараза минет,
Посети мой бедный прах;
А Эдмонда не покинет
Джении даже в небесах!
Вот это абсолютное простодушие, и против этого грандиозный лозунг модерна: «Вперед к смерти!», «Вперед к риску!», «Есть упоение в бою». Вот на этих двух полюсах стоит вещь. И все «Маленькие трагедии» — это автопортрет его души, и автопортрет его бурь, которые эту душу раздирали. Понимаете, ведь «Маленькие трагедии» можно сыграть совершенно иначе. Это можно сыграть как торжество человеческого духа над чумой. А можно сыграть как праздник имморалов, имморалистов, которые торжествуют среди трупов. Только что он потерял всю семью, председатель, он же один, поэтому хриплый, «охриплый голос мой приучен к песне». Можно сыграть его как циника, а можно как гения, как сверхчеловека, который преодолевает земное притяжение, который преодолевает традиционную мораль, который не хочет скорбеть, который назло смерти хохочет ей в лицо. Вот оба эти прочтения совершенно равноправны.
Когда он говорит священнику: «Оставь меня»,— это можно принять как отречение от бога, а можно понять как попытку стать богом, потому что, как помню из Бродского, «только размер потери делает смерть равным богу». Тоже довольно сомнительное высказывание, спорное, но эффектное.
Точно так же можно сыграть и Дон Гуана. С одной стороны, Дон Гуан — богоборец, и поэт, и вольнодумец, и протестант, и что угодно. А с другой стороны, он же — пошлейший соблазнитель, абсолютно аморальный тип. И в чем-то он Лауре своей равен. «Я тотчас вспомнил о своей Лауре. Что хорошо, то хорошо». Да ведь Лаура хороша, пока она молода. «Ты молода и будешь молода ещё лет пять или шесть». Он совершенно прав: кому будет нужна Лаура через 10 лет? Когда на первый, на внешний план выйдет её абсолютная пустота, труха её души. Ведь это труха, Лаура прекрасна до тех пор, пока она поет под гитару. А что с ней будет? Карлос совершенно прав в своем вопросе, потому что он внутреннюю пустоту, завораживающую бездну в ней чувствует.
Это то, что у Юнны Мориц названо «пустотою плутовскою развлекая плоть пастушки». И это очень остро. Точно так же амбивалентно можно играть и «Скупого рыцаря», именно потому, что барон, старик, здесь вызывает большую симпатию. Кстати говоря, амбивалентность эта заложена и во всех названиях. «Каменный гость» — если он гость, то он уже не каменный. Известная работа Якобсона подчеркивает одноплановость всех названий, их, во всяком случае, сходство. «Медный всадник», «Золотой петушок» и «Каменный гость». «Моцарт и Сальери» — тоже два полюса, как бы в одном две личности. Безусловно, «Скупой рыцарь» — это оксюморон. Оксюморонность эта заложена и пьесах, и последовательно выдержана. Скупой рыцарь — это как раз несочетаемые вещи, потому что если он рыцарь, то он не может быть скупым.
И, уж конечно, главный оксюморон, это «Пир во время чумы». Потому что вильсоновская трагедия, на которую ссылается Пушкин, там есть сходные сцены. Естественно, Пушкин целиком писал все концертные номера, все песни, но сама идея действительно у Вильсона есть. Пьеса называется «Чумный город», «The city of the plague», а у Пушкина это «Пир во время чума». Чумной пир, то есть совершенно прямое, оксюморонное противопоставление. И вот мне кажется, что как оксюморон её и надо читать. Потому что в Пушкине, вот что сделало его величайшим русским гением: в нем эти два начала были волшебным образом уравновешены, и верх брало то одно, то другое. То веселый имморалист, то богобоязненный, робкий и глубоко боязненный человек. То Пушкин говорит, что «поэзия выше нравственности», то благоговеет богомольно перед святыней красоты, настаивая прежде всего на этическом смысле эстетики, на её глубоком этическом заряде. И именно на этой оксюморонности он стоит. Потому что в мире нет ничего раз и навсегда определенного. Только тот, кто носит в душе своей вот этот оксюморон, кто способен пировать во время чумы, скупиться, будучи рыцарем, сочетать в себе гуляку праздного и наблюдателя,— тот, наверное, и может быть национальным гением. Это очень трудно, но это единственный путь.