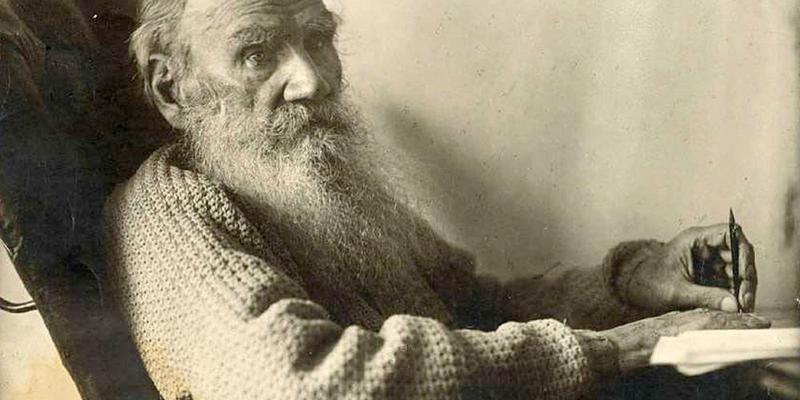Что касается этой истории с Чеховым. Во-первых, мы знаем сейчас её освещение с чеховской стороны: Чехов — человек фантастически больного самолюбия, мнительный, ипохондрического склада, патологически скрытный, всю жизнь страдавший от мании преследования и описавший это довольно точно в «Палате №6», конечно, воспринял это как личный удар. Надо вам сказать, что большинство художников так воспринимают свои провалы. Им кажется, что с ними сводят счеты за все предыдущие успехи.
Чаще всего это не так. Чаще всего деформация, болезнь. Пушкин не зря говорит про художника — «пугливое его воображенье». У кого нет пугливого воображения, у того, боюсь я, вообще нет дара эмпатии, дара подстановки себя на чужое место, и так далее. Художнику очень естественно чувствовать себя первопричиной мировых бед. И, кстати говоря, над этим заблуждением иронизирует «Дьявол среди людей» Стругацких, когда Киму Волошину кажется, что это он все делает, а это все делает не он, а сила помимо его, к нему не имеющая отношения.
Чехову казалось, что братья-писатели во время премьеры «Чайки» действительно с болезненной гневливостью, с поразительной пристрастностью восприняли его провал. Это довольно естественная вещь. Но то, что успеха не имела личность,— я думаю, это преувеличение. Я думаю, что «Чайка» — пьеса, слишком новая по жанрам, слишком оригинальная по приемам, и, конечно, постановщик её Евтихий Карпов — этот крепкий профессионал, совершенно не понял, что делать с пьесой. Её трудно поставить, ее, я думаю, что ключ к ней не сразу нашел и Станиславский. Она действительно написана как комедия, там масса комического, циничного, насмешливого, но это трагедия. Играть её надо — как всегда у Чехова жанровое обозначение — как фарс, и только тогда весь трагизм происходящего действительно начинает выпирать. Она совершенно новаторски построена. Там совершенно новая, до Чехова не бывавшая система персонажей. Реплики совершенно, опять-таки, не столько маскирующие мысль, сколько уводящие от нее. Герои говорят одно, думают другое, а делают третье. Чеховская драматургия — трагедия абсурда, трагифарс абсурда, и поставить это там никто, разумеется, не мог. Только Станиславский потом нашел к Чехову ключ: такую лирическую драму с элементами абсурда, и то в «Вишневом саде» это не сработало. Чехов требовал, чтобы её играли как веселую пьесу, а они играли это как реквием. Поэтому очень многие контрасты уходили от зрительского внимания. Мне кажется, что мнение Чехова — будто бы все собрались и ему отомстили за неуспех «Чайки» — это нормальное следствие его душевной изломанности, гипертрофированной душевной тонкости, ранимости, и так далее.
Что касается отношения к нему коллег. Во-первых, был почти единодушный консенсус при приятии/неприятии, любви/нелюбви среди писателей, что Чехов — номер один. Никто в этом особенно не сомневался. Во-вторых, Чехов одним своим появлением в литературе, одним своим существованием очень сильно задирал планки, и, наверное, да, он кому-то мешал. Блок говорил: «Мне мешает писать Лев Толстой». А Толстому мешал Шекспир, и Чехов сам говорил: «Мы-то для него мелюзга, а Шекспир свой, он мешает». И поэтому большинству литераторов Чехов не то чтобы не нравился — его достоинство признавали. Но он раздражал, он бесил. Бесил ранним успехом, бесил тем, что из всех писателей-современников он один удостоился признания и математиков, и композиторов (Чайковский с первых шагов был от него в восторге), и физиологов,— вся техническая интеллигенция читала Чехова и признавала. Живописная, музыкальная общественность была от него в восторге. Даже первая его пьеса, «Иванов» (на самом деле, вторая, потому что первой была незаконченная пьеса «Платонов»), дошедшая до сцены, имела значительный успех. И как-то неудача «Чайки» заставила совершенно забыть об этом. Но ведь ещё и Лесков, который после премьеры написал: «Какая она умная у него получилась», Лесков из старших писателей был в совершенном восторге от этого успеха младшего.
Действительно, Чеховская карьера при всех трудностях его жизни, при мечтах о материальной независимости, при диких объемах литературной работы,— все-таки это пример литературной карьеры, чрезвычайно успешной. Чехов к 1890 году, к своим 30 — признанный лидер не просто своего поколения, а русской прозы как таковой, на него серьезнейшим образом оглядываются, его хвалит Толстой. После первого знакомства, кстати, Чехов был едва ли не единственным человеком, который Толстого не разочаровал, который остался ему интересен, который всегда был интересен ему. Так что карьера его триумфальная, и некоторая зависть понятна. Это даже не зависть, скорее, а просто неприятно, когда рядом с тобой собрат столь юный, столь скромный и при этом незаносчивый, тихий доктор вдруг берет одну вершину за другой.
Чехов был болезненно обидчив, болезненно щепетилен. Когда ему говорили, что у него нет общественного мировоззрения, он считал это личным оскорблением и разрывал сотрудничество с журналами, которые позволили себе отзыв о его политической нейтральности. Но вообще бурная, кипящая и скрытно тлеющая, как жар под золой, совершенно измученная душа. Поэтому, конечно, провал «Чайки» был для него болезненным ударом, после этого кровохарканье там… Я думаю, что один только Суворин был по-настоящему посвящен в муки этого гордого и страшно одинокого сердца.