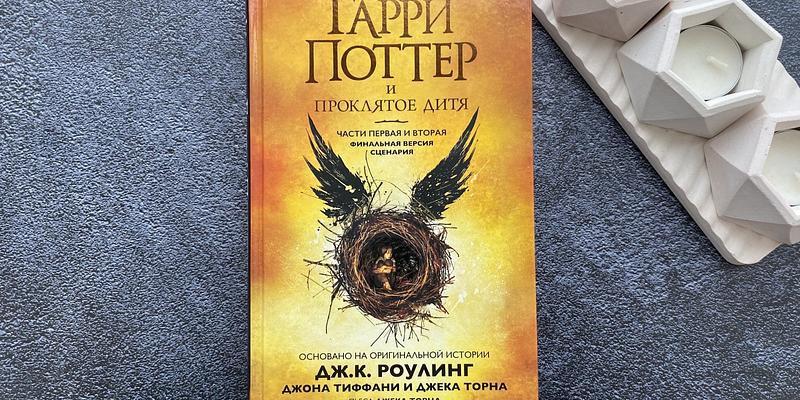Я бывал в Киммерии, для меня Коктебель — очень важное место. Я никогда там не жил, всегда туда приезжал. Макс Волошин для меня — один из самых дорогих поэтов. Я считаю его поэтом большим, не разделяя этого мнения, что Макс якобы риторичен, многословен; на мой взгляд, у него были гениальные стихи. И уж во всяком случае, не Бунину упрекать его в риторичности.
Что касается отношения к Крыму? Это не нежелание. Понимаете, это вопрос ответственности. Это своего рода епитимья, которую я на себя наложил. «Для настроения, для вдохновения нужно место, куда нам нельзя вернуться,— писал аз грешный в одном из стихотворений в «Бремени черных», оно называется «Exported». Видите, я действительно, совершенно искреннее в какой-то момент себе запретил Крым. Может быть, это моя расплата, потому что я чего-то не сумел остановить, я чего-то не сумел задержать. Я охотно бы признавал Крым русским, если бы обстоятельства, в которых он стал русским, были другие. Неужели я не понимаю, что Севастополь русский город, город русской славы? Неужели я не понимаю, неужели я сам не писал о том, что Украина ничего хорошего не сделала для «Артека», а в какой-то момент чуть ли его не погубила? Но та ситуация, те нарушения договоренностей, та война, то просто действительно неэтичное, негуманное и страшное по своим последствиям поведение, которое тогда началось, и, конечно, то, что с Крыма начался Донбасс,— все это не дает мне посещать Крым.
Я знаю, что определенная часть моих украинских слушателей сейчас скажет, что любой русский либерал кончается на крымском вопросе, что все мы тайные имперцы, но, понимаете, я же совершенно не отрицаю, что я когда-то с большим воодушевлением пел песню Городницкого «Севастополь останется русским». И сам Городницкий её написал совершенно не предполагая, что Лужков или следующая российская власть будут на Севастополь претендовать географически. На мой взгляд, есть духовная русскость, которую совершенно необязательно переводить в геополитический аспект. И Крым был более русским для России, когда он совершенно формально был украинским. Да, жители Крыма негодовали против этого. Жителям Крыма никто не мешал провести свой референдум заранее или тот же «Артек» не дать в обиду, когда его уничтожали, или определенным образом вмешаться в управление Украиной задолго до того, как началась фактическая война, задолго до того как началась фактическая оккупация. Хотя называть это оккупацией формально, как мы понимаем, нельзя. Задолго до того референдума (проведенного, прямо скажем, в чудовищных условиях), Крыму никто не мешал заявить о своих правах… Но меня как раз пугает и настораживает то, что и сегодня в Крыму нет никакого осознанного сколько-нибудь протеста, хотя многие говорят, что все недовольны. Почему-то всеобщее недовольство не трансформируется ни в какие политические действия.
Я понимаю, что это не в русской политической природе, не в природе уже описанной мною политической системы. Или не нужно тогда предъявлять никаких претензий, нужно честно тогда признать, что народ не решает собственной судьбы. А если считать, что он решил свою судьбу на референдуме 2014 года, тогда, наверное, не нужно сейчас роптать, когда что-то не нравится. Тогда нужно признать, что нужно делить ответственность. У меня нет такого (знаете, это слово мне кажется слишком барственным) нежелания посещать Крым. У меня есть моральный запрет на посещение Крыма. В такой Крым я приехать не могу. Я не теряю надежды, что когда-нибудь проблема Крыма будет решена, абсолютно не знаю как. Но я не теряю надежды увидеть эти места, самые дорогие для меня на свете, самые любимые. Но когда и при каких обстоятельствах — этого я совершенно не понимаю.