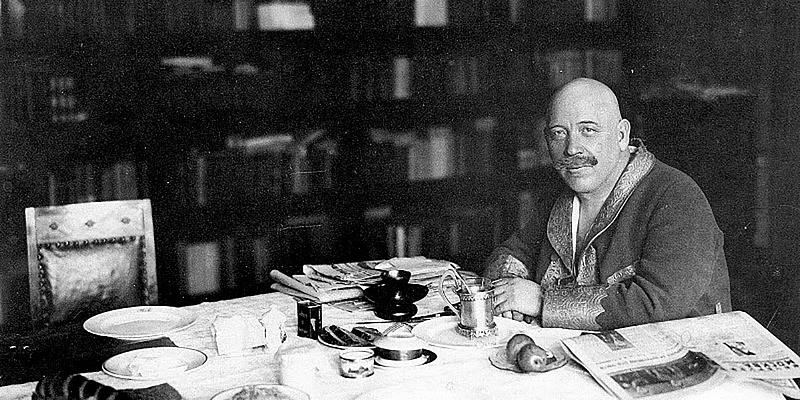Я думаю, будет гораздо интереснее поговорить на эту тему с Нани Брегвадзе. Вот когда она пела «Снегопад, снегопад» было ощущение, что она как бы догнала себя, вошла в свой возраст. Это возраст чуть за сорок – возраст усталой зрелости, скептического взгляда на вещи. Мне кажется, она и самая красивая была в этом возрасте. Я бы ее с удовольствием спросил, в чем преимущество этого «возраста снегопада». Мне это важно, потому что старость – это то, что нам всем (кому повезет) предстоит пройти, этот опыт универсален. Но я знаю, физически знаю и чувствую, что, во-первых, есть люди, которые могут совершенно не зависеть от возраста. А во-вторых, есть чудеса, которые дарит только здоровая и мудрая старость. Вот об этом я хотел бы с Брегвадзе поговорить – в чем преимущество возраста? Потому что вообще я не люблю всяких неизбежностей. У меня есть как раз новое стихотворение о том, что война идет всегда. Война просто обнажила бессмысленность жизни, а так-то жизнь вообще не больно осмысленный процесс, потому что все, что было, теряет цену.
Понимаете, я мучительно совершенно (если уж говорить откровенно) переживаю то, что у меня на антресолях стоит елка из ПВХ, лежит в разобранном виде, елочные игрушки – советские, 40-х годов, еще мамины. И все это там сейчас лежит неподвижно. Обычно я каждый год, из какого-то странного чувства долга эту елку собирал, гирлянды на нее вешал. Там был Дед Мороз, у которого шубка сшита из дедовой шинели, в которой он после войны служил на финской границе.
Вот все это лежит сейчас на антресолях, и те люди, которые живут в моей квартире (они живут там для поддержания дома – «живите в доме, и не рухнет дом»), не будут эту елку собирать. И этот Дед Мороз, эта Снегурочка 70-х годов, эти игрушки разных лет – с 40-х по 80-е, – все это лежит, но никому не нужно. И вот огромная, теплая, бурная жизнь семьи, которая вокруг этого строилась, никому не нужна, от нее никого не осталось, кроме меня. Никто этого больше не помнит. И, конечно, я понимаю, что на фоне бомбежек Украины, на фоне разрушенных домов, на фоне разрушенной жизни, разрушенной инфраструктуры совершенно это не важно, моя память и все остальное. Но я не могу не видеть тихого огня, тихого и неслышного, который пожирает нашу жизнь и все, что в ней было.
Война выводит на поверхность бессмысленность человеческого существования. Вот это, может быть, самое страшное, что есть в войне. Но для меня очень мучительны детские мои воспоминания именно потому, что мне не с кем их share, не с кем их разделить. Они – моя индивидуальная собственность: больше, кроме меня, этого никто не помнит. Вот в этом, наверное, «пытки памяти», как говорила Новелла Матвеева. Это не роковая память и не модная сейчас «проработка травм», это не коллективная память. Нет, это именно ужас мысли, что все, чем мы жили, стало никому не нужным. И эта елка, которая была для всех довольно сакральна, и эти вещи: все утратило смысл. Но ведь это же сделала не только война. Так вообще делается, что жизнь каждого следующего поколения утрачивает смысл. Особенно в России, где работает цикл. Вот, наверное, об этом я бы предпочел говорить и думать, рассматривая травмы истории.