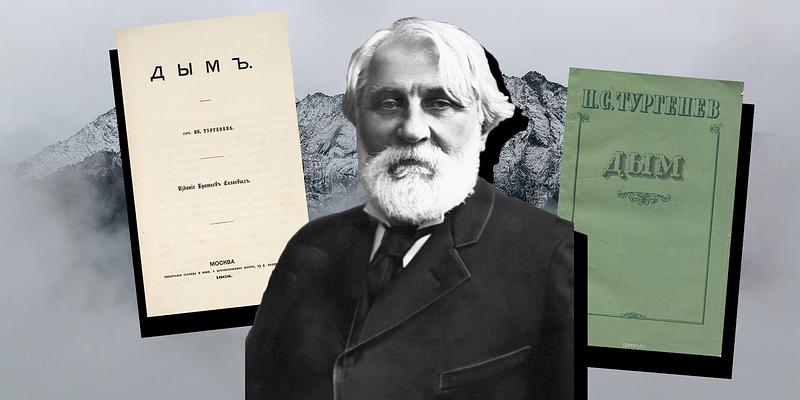Старт русского научного романа, как и старт всей серьезной русской литературы XX века, был дан в 60-е годы века XIX, когда настал настоящий золотой век русской прозы, и когда появились персонажи типа Базарова.
Собственно, бюхнерова «Stoff und Kraft» («Материя и сила»), которую читает Базаров и которую он рекомендует дать Николаю Петровичу — это и есть основа позитивистского мировоззрения, основа такого миросозерцания, при котором в основе всего лежит именно наука.
Это очень важно понимать, когда речь идет о Базарове. Базаров ведь не просто нигилист. Отрицать всё — это скорее задача Ситникова и Кукшиной, которые ничего не понимают. Это скорее задача крикливого Аркадия. Базаров режет лягушку — вот его главное занятие. Он эмпирик. Он считает, что надо исходить из того, что можно потрогать, пощупать, доказать. Из реальности, самой грубой и жесткой, как он ее видит.
Таких людей в русской прозе XIX столетия появилось довольно много. Предельным развитием такого типа стал фон Корен из чеховской «Дуэли» — биолог, о чьих научных занятиях мы не имеем ни малейшего понятия, но биология некоторым образом определила его мышление. Он такой ницшеанец. Он как «Волк» Ларсен у Джека Лондона в «Морском волке». Он верит в более сильные куски закваски, в то, что побеждают сильнейшие.
Это такое вырождение русского романа, при котором сила заменяет собой правду. Базаров еще не верит, что он сила. В нем слишком сильны предрассудки. Он слишком человек. Ему и мать жалко. А вот фон Корену уже никого не жалко, и он убил бы Лаевского.
Дело в том, что позитивистское мышление чревато очень серьезными и очень трагическими последствиями. Человек научного, позитивистского склада, для которого сама идея Бога антинаучна, с неизбежностью приходит к социальному дарвинизму, к рацио. А если мыслить рационально, то и старуху надо убить, потому что старуха — прыщ на человечестве, прореха. В общем, Плюшкин прореха, а старуха уже даже, пожалуй, злокачественная опухоль на человечестве. Да и вообще, если рационально подходить к миру, у нравственности нет ни единого сколько-нибудь убедительного обоснования.
Поэтому русский научный роман — это роман по преимуществу базаровский, атеистический. Более того, это роман в своем развитии плавно упирающийся прямо в арцыбашевского «Санина». Потому что Санин — сила, такой жеребец. Моральных ограничений у него нет в принципе.
Несколько сложнее в этом смысле конфликт 60-х годов. Потому что, понимаете, конфликт физиков и лириков возник не на пустом месте. Конечно, это отвлечение, конечно, это демагогия — всё это «и в космосе нужна ветка сирени». И, конечно, знаменитое эренбурговское письмо инженеру Полетаеву. Дело в том, что на внучке инженера Полетаева я как раз был женат первым браком, и поэтому хорошо знаю эту коллизию от Инги Игоревны Полетаевой, его дочки.
Дело в том, что инженер Полетаев, который обратился к Эренбургу со своим письмом, был, в общем, логичен и прав, доказывая, что физик, который слишком лиричен — это плохой физик. Речь шла о Фредерике Жолио-Кюри, который действительно, в отличие от жены, был физиком так себе, насколько я понимаю.
Проблема именно в том, что в 60-е годы в России прагматика и религия или, иными словами, прагматика и мораль вступают в непримиримой клинч. С одной стороны, люди науки, которые отрицают религию, но отрицают вместе с тем и сакральность государства, и государственную иерархию. Это по преимуществу диссиденты. Ведь Сахаров был атеистом. И атеизм естественным образом входит в его мировоззрение, потому что он противник всяких культов. А с другой стороны, люди, которые настаивают на своей высокой моральности, но которые ненавидят науку и прагматизм именно за их якобы бездуховность, за их бездушность.
Вот мы в России сейчас живем в условиях того же ложного, фальшивого противопоставления. Надо сказать, что это противопоставление больное, потому что Базаров и Павел Петрович — это оба продукты абсолютно больного общества. На самом деле прагматизм и порядок, прагматизм и мораль не противопоставлены. Они взаимно обусловлены. И противопоставлять Базарова Павлу Петровичу глупо именно потому, что они — искусственно разлученные половинки единого целого.
И вот отсюда попытка Гранина нащупать синтез, его попытка дать удивительный образ Тимофеева-Ресовского. В довольно виртуозной книге «Зубр» Тимофеев-Ресовский в первом издании ни разу не был назван по имени. Он действительно профилем был очень похож на зубра, и все понимали, о ком речь. Все понимали, о чем она написана. Было понятно, что он действительно тот самый репрессированный советским государством за пребывание в Германии, на самом деле абсолютно чистый создатель популяционной генетики.
Но Тимофеев-Ресовский удивительным образом сочетал нравственность и прагматику, религиозность и научность мировоззрения. А советский (и русский) научный роман был изначально ущербен потому, что вера в Бога понималась как атрибут государственный чувства, даже иногда государственного садизма. И тот иерархический абстрактный мир, который навязывался в качестве религиозного идеала, противопоставлялся науке с ее прагматизмом.
На самом деле самое прагматичное, что может быть (и это пытался доказать Чернышевский) — это нравственное поведение. Сейчас, кстати, эту мысль всё время в более простом варианте повторяет Ходорковский: «Если нет выгодной модели поведения, ведите себя морально».
И кстати говоря, Чернышевский, настаивающий на том, что мораль выгодна (а Чернышевский — это и есть представитель научного мировоззрения в русской прозе), натыкается на дикие опровержения со стороны Достоевского, потому что Достоевский утверждает, что прагматизм — это лакейство. Что действовать из интересов презренной пользы может только лакей Смердяков. Что рациональное недостойно человека, человек должен действовать так, как хочет его левая нога.
Вот как раз это и есть иррациональное мышление. Поэтому русский научный роман действительно всегда отличался некоторым лакейством, плоскостью, ужасной примитивностью. Это и есть результат болезненного патологического развития русской общественной мысли, когда прагматика противопоставлена морали.
Очень интересно, что в 60-е годы, например, даже в пьесе талантливейшего Радзинского «104 страницы про любовь» до известной степени противопоставлены вот эта романтическая стюардесса и ничего не понимающий прагматик — ее возлюбленный.
На самом деле я должен заметить, что именно гуманность, именно сочувствие человеку, даже до известной степени сентиментальность была присуща в России людям строго мыслящим, мыслящим научно. Что как раз из среды физиков, а не из среды гуманитариев выросли самые упертые и самые строго организованные диссиденты, которые настаивали на свободе, на гуманистическом отношении.
Но дело в том, что гуманитарии — они же не имеют (во всяком случае, не имели тогда) строгой системы ценностей. Может быть, именно попытки интерпретировать гуманитарные науки строгим образом, попытки Лотмана или семиотического кружка Жолковского и Мельчука, попытки гуманитариев построить строгую науку были вот так по-диссидентски продуктивны.
Кстати говоря, если брать научные романы, то, наверное, таким романом может считаться (правда, это получается роман в рассказах) цикл автобиографических «виньеток» Жолковского, где речь идет о жизни и занятиях Московского семиотического кружка 60-70 годов.
Это были люди, которые замечательно умели сочетать научное и гуманитарное. И даже, в каком-то лотманском смысле, гуманитарное и религиозное — даже, пожалуй, рискну я сказать. И Умберто Эко тоже удивительным образом сочетал научность, адекватность мышления и при этом строгую его логичность.
Вот я думаю, что настоящий русский научный роман, который еще по-настоящему не написан — это, конечно, не такое автобиографическое эссе, как «Память памяти», вещь предельно субъективная. Это именно жизнеописание современного молодого ученого, молодого мыслителя.
В некотором смысле научным романом можно назвать и «Философию одного переулка» Пятигорского — безусловно, и, наверное, «Бесконечный тупик» Галковского. То есть это романы философские, в которых присутствует попытка, при всём субъективизме Галковского, всё-таки построить научный дискурс. Дело в том, что беда большинства современных российских романов — это отсутствие мировоззрения. А научный роман настаивает на необходимости мировоззрения.
Понимаете, вот если брать западные университетские романы, то, наверное, эталоном я бы назвал Малькольма Брэдбери «Обменные курсы», абсолютно гениальный роман, и приложение к нему «Зачем посещать Слаку?». Умберто Эко с его научным романом.
И философские романы, и романы гуманитарные, и романы исторические (кстати говоря, я считаю, что сейчас вот эта огромная историческая работа Александра Янова и историческая работа Акунина — это тоже, в общем, научные романы) — вот это, мне кажется, и есть, строго говоря, будущее российской литературы.
Потому что вне науки, вне научного мировоззрения, вне строгости осмыслить происходящее сегодня со страной просто по определению невозможно. Это опять будет болтовня. А мы сейчас ни в чем так не нуждаемся, как в базаровской строгости, только в отрыве от базаровского ригоризма. Там, где ложное противопоставление сменяется синтезом — там начинается новое.