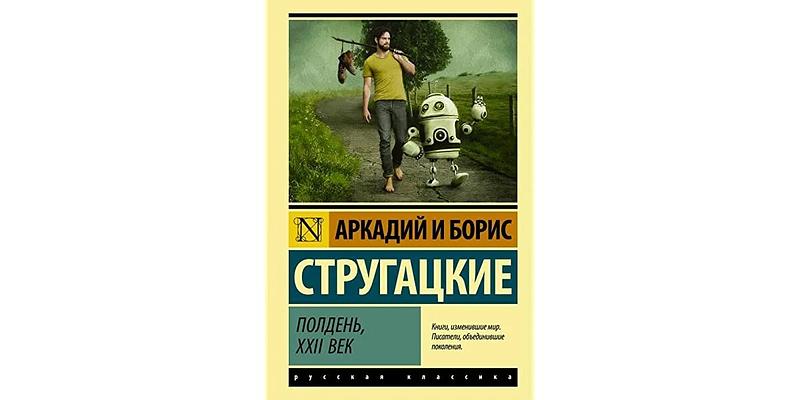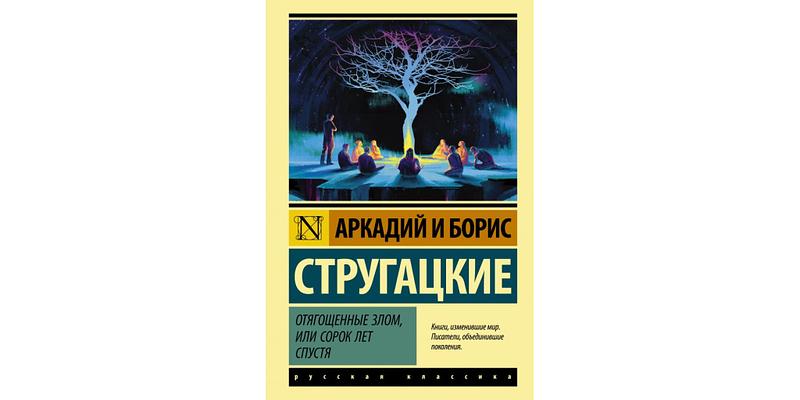Видите ли, Стругацкие вообще — довольно такая мачистская литература, мужчинская, киплинговская. И, конечно, в фантастике тех времен, в фантастике прежде всего героической, как раз в фантастике времен экспансии человечества на другие планеты, мужчины брали на себя наиболее тяжелые нагрузки. Представьте себе рядом с Горбовским женщину. Тем не менее, женщины у Стругацких есть. Как минимум в трех текстах одна и та же героиня, которая везде играет роль определяющую: это Майя Глумова. Прежде всего — в «Малыше», где она первая догадалась о том, что с Малышом не может быть контакта, что он другое существо.
Это очень страшная повесть — «Малыш». Я помню, мы с Кириллом Мошковым её обсуждали. Мошков — ныне известный джазовый, вообще музыкальный критик. Он говорил, что «Малыш» — это поэма. Поэма-то поэма. Но это, пожалуй, ещё более горькая, чем у Лема в финале «Фиаско», догадка о невозможности взаимопонимания. О невозможности выстроить диалог с собственным ребенком. Я не хочу тут впадать в исповедальность, но все-таки, у меня сыну послезавтра 20 лет. И он, безусловно, один из моих лучших товарищей. Андрюха. Но при этом я прекрасно понимаю, насколько он другой. Он меня понимает в каких-то тончайших, точнейших вещах. Но это страшный, иррациональный ужас перед тем: да, это твой сын, но он совершенно, все-таки, другой человек. И ты свои представления ему не вложишь. Да, это так. И в «Малыше» первой это понимает Майя Тойвовна Глумова. Отсюда мораль: Майя Глумова вообще по иррациональной своей женской природе, ближе к хаосу и лучше с этим хаосом уживается. Она понимает Льва Абалкина, она понимает своего сына Тойво Глумова, который другой человек. Вот Ася, жена Тойво, она его совсем не понимает. И помните, там в замечательной сцене реконструкции, когда Каммерер пытается выстроить их последний диалог с Асей, Тойво с бесконечной снисходительностью (на самом деле, уже с бесконечной удаленностью от нее) говорит: «Милая ты, и мир твой милый».
Это потому, что у нее все хорошо. Это как плоский мир Марины и Димы в «Летящем почерке». Она нормальная. А вот Майя Тойвовна — ближе к хаосу. И она понимает, и принимает этот хаос. Нормативный мир, в известной степени, женщине чужд. Он ей навязан. И именно поэтому, скажем, в «Далекой радуге», Роберта только Таня и понимает. Потому что Роберт — тоже иррациональное существо. Для него не существует морали, нет законов, а есть любовь, и эту любовь надо спасать. И она его, в конце концов, хочется надеяться, простила.
Майя Глумова — очень важный герой у Стругацких. И ещё, понимаете, есть одна очень важная черта, которую Стругацкие иррационально чувствовали. Это большая могла быть тема, тоже, для лекции — «Женщина у Стругацких». Вот Диана, в «Гадких лебедях». Когда она уходит с мокрецами, с детьми. Понимаете, она ненавидит этот мир. Потому что это мир разврата и алкоголя, в этом мире ей приходится работать, по сути дела, дорогой проституткой, приходится обслуживать чудовищ. Для нее Банев — свет в окошке, и то, знаете, Банев не пряник. Она хочет уничтожения этого мира, она имеет на это право. И почуяв разрушительную, спасительную новизну, она встает на её сторону. А Банев не может этого сделать. Банев говорит: «Все это очень хорошо, только вот что: не забыть бы мне вернуться». Не забыть бы мне из этого рая, где я вижу Диану счастливую, понимаете, не забыть бы мне из этого чудного нового мира вернуться назад в мой ад. Потому что это мой ад.
Для Стругацких эта тема, эта эмоция, сказал бы я, вообще очень болезненна. Они же военные писатели, и в этом смысле, наверное, самой откровенной вещью, которую многие считают неудачей, и они сами её недолюбливали,— это «Парень из преисподней». «Парень из преисподней» важен, во-первых, как важный аргумент в спорах об эмбрионах. Судьба Корнея Яшмаа, одного из товарищей Льва Абалкина по несчастью, доказывает, что если этим людям не ломать жизнь, то все у них было бы нормально. Это важный аргумент в «Жуке в муравейнике». Я легко отсылаю к разным текстам Стругацких, потому что в их вселенной продолжаю жить. Конечно, я не знаток, я не из группы «Людены», но для меня эта система текстов жива, актуальна и дышит.
Но помимо этого, в «Парне из преисподней» есть ещё важнейшая эмоция, которая Стругацких очень связывала с кровавым, страшным советским проектом. Они все про него понимали, но они понимали, что они плоть от плоти его. И поэтому они не могли до конца от него отречься. И поэтому когда Гаев в финале «Парня из преисподней» оказывается на своей страшной планете, где все так ужасно… «Дома!— думал он.— Дома!». Понимаете, толкает эту машину и думает: «Господи, какое счастье, я в родном аду». Вот этот образ родного ада для Стругацких очень важен. А Диана делает выбор в пользу рая. Потому что у Дианы нет этого ощущения долга, и, может, ещё и потому, что она ближе, действительно, к хаосу: она радостно приветствует катастрофу. Ей нравится, когда дождь смывает этот город, и Банев думает: «Я видел разную Диану, но впервые я вижу Диану счастливую». Да и Дианой зовут её не просто так.