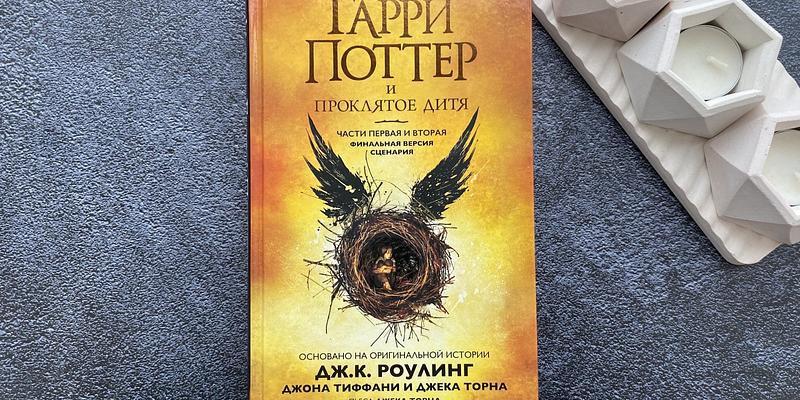Что касается Леонида Соловьёва. Это очень интересный извод русской литературы. Он вырос в Средней Азии и провёл там много времени, скажем так, хотя он по происхождению своему русак из русаков. Он сумел написать несколько недурных ранних очерковых книг, но, конечно, первая слава пришла к нему с «Возмутителем спокойствия». Почему Ходжа Насреддин оказался в это время главным, самым обаятельным героем русской литературы? Мне написали, что в городе был один экземпляр этой книги, и на неё стояла в библиотеке трёхмесячная очередь, но удалось нашему герою всё-таки её прочитать.
Что я могу сказать относительно книг, текстов Соловьёва? Это очень интересное, очень нестандартное продолжение линии Остапа Бендера, странствий плута, странствий хитреца. Почему это перенесено в Среднюю Азию, объяснить очень просто — потому что всё более азиатской и всё более среднеазиатской становится в это время русская жизнь, жизнь при Сталине. И, конечно, Бендер уже невозможен, а возможен Ходжа Насреддин.
Кто такой в сущности Ходжа Насреддин? Хитрец восточного типа, хитрец-приспособленец, который внутри этого мира «Тысячи и одной ночи» — мира жестокого, кровавого, пряного, острого, страшно авантюрного и при этом абсолютно насквозь прозрачного, мира, в котором никуда не укрыться,— выбирает новый modus vivendi. Конечно, Ходжа Насреддин не борец, а он гениальный приспособленец. Он мастер басни, мастер эзоповой речи (хотя никакого Эзопа там, конечно, не знают). Он имитирует народный, фольклорный стиль, но на самом деле это, конечно, стиль глубоко авторский. Он великолепно сочетает сладкоречивость и многословие восточной аллегории и вот эту фольклорную остроту, фольклорную соль. Юмор Ходжи Насреддина у Соловьёва, конечно, грубоват. Да и сама эта книга грубовата, но она очень точно имитирует витиеватый слог сталинской эпохи, она абсолютно точно отражает эту страшную жару тоталитаризма,— жару, от которой нельзя укрыться в тени, потому что она везде. И единственный способ среди этой жары и среди этого палящего, страшного тоталитарного солнца создать хотя бы иллюзию тени — это вот так гениально приспособиться.
Вторая книга была написана при обстоятельствах уже совершенно невыносимых, потому что Соловьёв сел. Он всю жизнь говорил, что это ему божья месть, божье наказание за то, что он очень плохо обошёлся со второй женой. Я не знаю, насколько это всё правда, почему он сел. Ну, там ложный донос какой-то имел место. Но вообще в то время, как вы понимаете, человеку сколько-то остроумному и сколько-то понимающему ситуацию крайне трудно было уцелеть. Он сел уже после войны, насколько я помню — в 1951 году, если я ничего не путаю. Ну, надо будет заглянуть в «Википедию». И на тверской пересылке (из Ленинграда, по-моему, его везли) его узнал начальник какой-то и дал ему возможность писать книгу, писать вторую повесть о Насреддине. Он сказал: «Вы можете написать ещё одну повесть про Насреддина? Я вас тогда освобожу от работ, оставлю здесь. Пишите». И он писал её — точно так же, как Штильмарк, так казать, по разрешению Василевского и по его заказу писал «Наследника из Калькутты». Это особая тема — лагерные писатели. О ней можно было бы много рассказывать. И хорошая книга могла бы быть.
Соловьёв за полтора года написал «Очарованного принца», продолжение о Ходже Насреддине. Там кое-то где проглядывают откровенные признания о том, в какой обстановке он эту книгу пишет. Он там говорит: «За базар моей жизни ухожу я почти нищим, без приобретений. Но день не кончился. И хотя он клонится к закату, может быть, ещё есть какая-то надежда, может быть, мы успеем как-то ещё улучшить свои результаты».
И действительно «Очарованный принц» — это гораздо более авантюрная вещь, гораздо более горькая при этом. И в ней страшно чувствуется усилившаяся, ещё более гнетущая несвобода, с одной стороны. И, конечно, чтобы угодить вот этому первому читателю, который, как маньяк в «Мизери», удерживает его у себя… Это несколько большая авантюрность, налёт такой приключенческой литературы. Но обе книги друг другу совершенно не уступают. Интересно, что третья часть трилогии, как и в случае с Бендером, тоже не была написана. Боюсь, потому, что некуда героя привести. Конечно, есть ещё замечательная версия Леонида Филатова, который из «Возмутителя спокойствия» сделал прекрасную пьесу в стихах.
В чём особенность Соловьёва? Во-первых, он великолепно воспроизводит среднеазиатский колорит, колорит «Тысячи и одной ночи»: азиатского коварства, азиатской медлительности, иезуитского остроумия, сахарной, похожей на халву, медоточивой речи. Весь домусульманский, доисламский Восток, чистый восторг, вся атмосфера «Тысячи и одной ночи» воспроизведена у него очень грамотно и с великолепным знанием предмета. Кроме того, конечно, страшно обаятелен сам главный персонаж, этот наследник Одиссея, на чьих странствиях всё строится. Почему всегда странствия хитреца? Потому что бесхитростного все эти бесчисленные опасности поглотят, конечно. И его Ходжа Насреддин — это не просто народный герой, вроде Уленшпигеля (а книжка немножко похожа, конечно, на «Уленшпигеля», прямое влияние де Костера там чувствуется), а это именно человек, который задаёт географию этого мира, странствуя по нему, он его описывает.
Два главных центра, два главных топоса — это дворец и базар. Во дворце господствует интрига, пытка, казнь, слухи, трусость, предательство. Базар — напротив, это любимая сцена Ходжи Насреддина; это место богатства, торговли. Но богатства не казны, которая так похожа на «казнь». Это не богатство денежное, а это разнообразие, бесконечная пестрота (пёстрые старые халаты, специи, пряности, мясо, рис, мёд), это страшное богатство Востока, его цветущая природа. И вот на этом сочетании нищеты и богатства, на этом контрапункте, на сочетании сладкоречия и хитрости, роскоши и зверства очень сильно всё построено. Это сильный контраст. Топосы придуманы замечательные.
И сверх того, что здесь важно. Ходжа Насреддин не просто остряк, не просто неунывающий борец с ханжеством, пошлостью, не просто неутомимый хитрец. Ходжа Насреддин — это неубиваемый дух народа, о чём очень важно было напомнить в кошмарные 40-е годы. 1938 год — первая книга, 1952 год — вторая, а издана она была в 1956-м (кстати, как и «Наследник из Калькутты»). Это на самом деле удивительная история о том, что народный дух, казалось бы, среди тотальной пассивности, среди гнили, он неубиваем. И поэтому этот двухтомник Соловьёва до сих пор нас так утешает. Эта книга, казалось бы, о рабстве, все рабы, но в душе все всё понимают, и насмешничают, и верят в сохранение этого не молкнущего насмешливого голоса, поэтому Соловьёв умудрился написать среди тоталитаризма сталинского, наверное, самую жизнеутверждающую книгу.
Он выжил, вернулся, шедевров уже после этого не написал, а пожинал лавры и славу всякую после выхода дилогии о Насреддине. Наверное, потому не мог написать, что исчезли те напряжения, потому что Россия стала менее азиатской. Да и что там добавлять? Всё сделано. Но сама имитация слога на высочайшем уровне! Такого достигала, мне кажется, только Далия Трускиновская в «Шайтан-звезде».