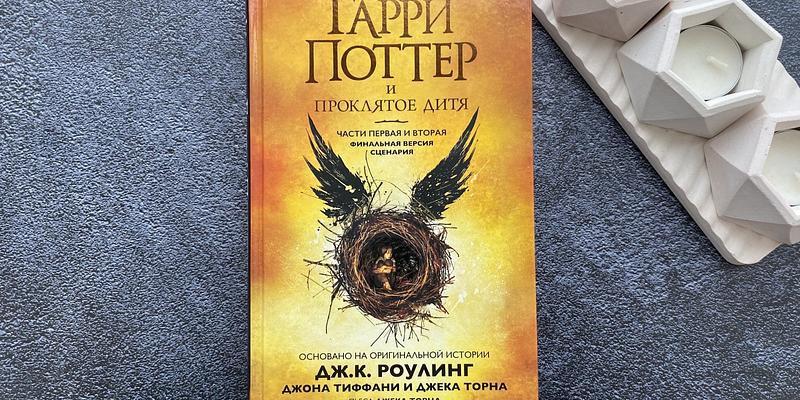Юрий Мефодьевич Соломин представляется мне великим актером, очень разноплановым, очень непохожим на себя, и все его роли очень непохожи. Соломин-Телегин и Соломин-Эмиль – это два совершенно разных человека. Подвластно ему было все, он умел комедию, умел гротеск, умел героику (в знаменитом «Адьютанте его превосходительства»), он действительно был гениальный, разноплановый, сложный актер. Кстати говоря, когда он играл царя Федора Иоанновича одновременно со Смоктуновским, я видел этот спектакль. И он производил впечатление очень сильное. Есть запись этого спектакля. И, по-моему, он играет там замечательно. Я просто его голосом помню: «Паче же всего под ложку берегитесь бить друг друга, то самое смертельное есть место!». Он об этом у А. К. Толстого с трогательной серьезностью говорит и думает.
А что касается Соломина как руководителя Малого театра, я не берусь об этом судить. Мне кажется, что Малый театр был чрезвычайно консервативен, мало менялся. Соломин вообще был откровенен, искренен в разговорах с журналистами, он говорил: «Ну хорошо, пусть кто-то меняется, должна быть и такая красочка в палитре, должен быть и традиционный театр. Мы играем русскую классику, у нас дом Островского, у нас классическая актерская школа, мы не бежим за новациями. Пусть будем и мы тоже». Понять его можно, хотя мне кажется, что театр стагнировал. Я со страхом думаю о том, что будет после него. Понимаете, традиционализм и консерватизм – хорошие вещи, до тех пор, пока они не переходят в наступление. Как только они оказываются в атаке, как только начинают затаптывать новое, пиши пропало. А театр этот такой, что есть высокий шанс привести туда сегодня молодого агрессивного худрука. Я не очень представляю, кто это будет, но я бы очень этого хотел.
Хотя с другой стороны, в современном российском театре, когда студийность его практически сходит на нет, когда фестиваль в Молчановке прекратился, когда мастерская Брусникина прекратилась, когда руководителями большинства театров назначают людей до гроба лояльных, – на что тут рассчитывать особо? Видимо, возрождение русского театра начнется со студий. Будет сейчас, наверное, некоторое количество подпольных студий. Вот раньше такой лабораторией поиска была Табакерка. Но Табакерка под Машковым – какой же она может быть лабораторией поиска, о чем мы говорим? Театр с Z на фасаде… Поэтому наверное в ближайшее время никаких театральных событий в России ожидать не следует, кроме тех, о которых мы не узнаем; каких-то домах культуры, может быть, в каких-то домашних, квартирных спектаклях. Что-то такое снизу нарастающее, этого будет очень много.
Я же помню, как на спектакль – на авангардное и что-нибудь любопытное – Розовского «Концерт Высоцкого в НИИ» – просто люди приходили в какой-то репетиционный зал на окраине Москвы, их впускали по звонку или по паролю, и они смотрели этот спектакль. Это такая студийная, полузапретная, крамольная, подпольная форма существования, такое в России всегда было. Понимаете, ведь и МХТ не всегда же был академическим театром, какое-то время он был таким отважным и, во всяком случае, не самым респектабельным делом. Всегда все нарастает снизу. Срок жизни театра хорошо, если еще 30 лет, и, конечно, какая-то новая Таганка сейчас вызревает в недрах российского общества. Какой она будет, я не знаю. Мне кажется, это будет такой остро психологический театр, театр надрыва, театр истерики. Брехтовская, площадная эстетика нынешнему времени не очень органична. Посмотрим, что будет делать Беркович.
Меня, кстати, потрясла ее речь, это гениальное стихотворение. Действительно, тончайшее скрещение жанров: с одной стороны, риторика суда, с другой – все-таки стихи, причем стихи необычайно естественные, органичные. Я всегда выступал за органику поэтической речи: это должно быть так естественно, что прозой иначе не скажешь. А Беркович замечательно владеет этой риторикой, у нее нет ощущения насилия над словом. Стихи текут совершенно естественно, и это высокое мастерство. Я уж не говорю о том, что это еще и замечательный урок судье. Потому что всей риторики государства мы не можем сейчас противопоставить никакие юридические формулы, а только напор поэтического слова.
Я печальную вещь, наверное, должен сказать, но, видите, суды перестали быть актом установления справедливости, причем довольно давно. И правильно совершенно Беркович говорит: если нельзя изменить суть, надо работать с формой. По всей вероятности, в ближайшее время мы будем видеть все больше таких страшных, действительно пугающих перформансов. На наших глазах основной трибуной политической жизни, политического высказывания становится суд. Он не ведет к установлению справедливости, хорошо. Значит, его можно использовать как трибуну или как сцену. Думаю, Петрийчук – а она талантливый драматург – не уступит Беркович в своих перформансах.
Мне кажется, главный жанр современной публицистики, когда вы можете сказать действительно все, – это выступление в суде. И «Книга последних слов» в жанре, предсказанном Юзом Алешковским, уже вышла в Freedom Letters. И там собраны высказывания российских правозащитников – действительно, своего рода «репортаж с петлей на шее». Мне кажется, этого будет много. Это гениальное использование предлагаемых обстоятельств. То, что в судах устраивает Навальный, – это гениальное глумление. Пастухов совершенно прав: не получилось уже его сломать, а теперь убивать его не выгодно, это покажет вашу слабость. Хотя ее мы видим и так.
Поэтому да, речь Жени Беркович восхитительная, и я думаю, что судьба русского театра во многом будет зависеть от того, что будет делать Женя Беркович. Судьба русской поэзии тоже. Вот так получилось в очередной раз, история поставила на одних и положила на других.
Кстати, думаю, что и многие уехавшие будут в числе людей, определяющих дискурс, определяющих развитие русской литературы. Я точно знаю, что никакого прощения и никакого искупления не будет для «зетанувшихся». Потому что никто не заставлял. Люди по доброй воле, ради выгоды, ради мести, ради того, чтобы кого-то оттеснить добровольно поцеловали дьявола под хвост. Таких людей прощать никто не будет, и история культуры не простит тем более.