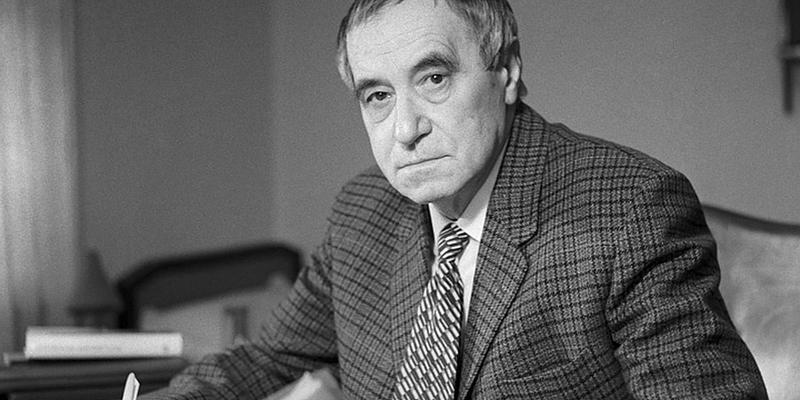Я очень люблю Евгения Харитонова. Я его считаю крупнейшим писателем своего поколения — 1940-х. Некоторые его рассказы, такие, как «Жилец написал заявление», например, или «Покупка спирографа» мне кажутся просто шедеврами. Да, в общем, и многие его стихи, и его пьесы, и некоторые монологи типа «Мы гибельные цветы». Нет, это блистательно. И мне, честно говоря, совершенно неважно, делал ли он темой своих лирических сочинений гомосексуализм или, например, алкоголизм. Он для меня писатель того же класса, что и Венедикт Ерофеев. С такой же внутренней драмой, с таким же самоуничтожением.
Ну а погубило его что? Погубила его, конечно, атмосфера страха постоянного разоблачения, вызовы в КГБ. Не только за гомосексуализм, а главным образом за самиздат. Он же всё-таки входил в группу «Каталог» .
Мне кажется, что когда вокруг тебя арестовывают друзей, когда жизнь в позднем СССР (1980–1981 годы) становится уже совсем зловонной, и культурный расцвет 70-х сходит на нет, большинство друзей уезжает, мне кажется, это очень трагическая ситуация. И сердце больное, кроме этого. Понимаете, он всё-таки ребёнок войны. Долгая жизнь в Новосибирске. Довольно голодное и трудное детство и студенческая голодная молодость. Страшная ранимость и впечатлительность.
Его многое погубило, но прежде всего, мне кажется, атмосфера политических преследований. Вы понимаете, бесполезно на рациональном уровне объяснять, чего боится человек, когда его вызывают следователи, когда ему звонят мошенники, представляясь следственным комитетом, когда он получает повестку в суд даже свидетелем. Потому что свидетель при первой необходимости стремительно превращается в обвиняемого.
Это же вечная история, когда человек боится сообщить о чужом преступлении именно потому, что крайним сделают его. Он-то — вот он. Это не какие-то благородные мотивы. Помните, как у Достоевского Христос у магазина Дациаро. «А что бы вы сейчас сделали, услышав, что кто-то взорвет Зимний дворец? Вы пошли бы в полицию?»,— спрашивает он Страхова. Тот говорит: «Нет, не пошел бы».— «И я бы не пошел».— «Почему? Ведь это ужас!».— «А потому бы не пошел, что тебя бы и сделали крайним». Особенно если учесть, что ты и так на карандаше после известного дела Петрашевского.
То есть проблема в том, что в России репрессивный аппарат — это механизм перемещения в ад без какой-либо реабилитации, без какого-либо спасения. С тобой могут сделать всё. И вот это ощущение, я думаю, Харитонова и убило. Если бы не это, он жил бы, конечно, дольше. Его изгойство, думаю, тут было совершенно ни при чем.