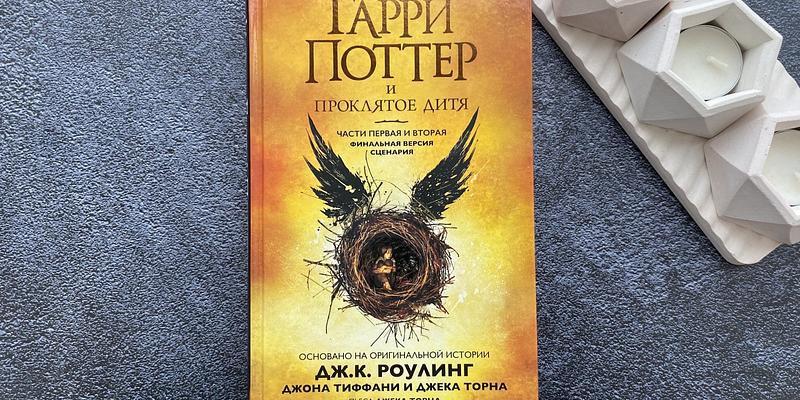У меня не какого-то специального отношения к Адамовичу. Как поэт он не самый типичный представитель «Парижской ноты» — «Парижская нота» виднее всего на таких уж совсем эпигонах вроде Штейгера. Я склонен считать, что «Парижская нота» — это очень вторично и жидко. Но у них своя трагедия, что же делать? Мне в последнее время и Георгий Иванов разонравился именно потому, что однообразен крайне и чрезвычайно все-таки патетичен в такой афористично дешеватой. Есть шедевры, а есть все-таки инерция. Из всех поэтов французской эмиграции, таких ровесников Адамовича, интереснее всего, конечно, Поплавский. Но и у Поплавского очень много автоматического письма, инерционности. Вот, кстати, проза-то его — и «Аполлон Безобразов», и особенно «Домой с небес»,— я вот как-то, пока в Штатах преподавал, читал, и тоска эта очень разряжалась от соприкосновения с ним, очень облегчалась от совпадения внутреннего. Нет, проза у него была гениальная, мне кажется. Вообще, у Поплавского такие стихи, как «Черная Мадонна» или «Белый пароходик», самые известные — они же, так получилось, и самые лучшие. Они совершенно гениальные:
И сквозь жар ночной, священный, адный,
Сквозь лиловый дым, где пел кларнет,
Запорхает белый, беспощадный
Снег, идущий миллионы лет.
Мне кажется, из всех апокалиптических стихотворений, где как-то угадывается новая мировая война и вот эти все миллиарды нулей, самое убедительное — это Мандельштам («Стихи о неизвестном солдате») и Поплавский («Черная Мадонна»). Совершенно гениальное стихотворение! И прав, конечно, Набоков, который в поздние годы покаялся перед ним. Я, честно говоря, думаю, что Кончеев, судя по двум его строчкам, которые мы знаем, конечно, и есть [Поплавский]. Вот это: «Виноград созревал, изваянья в аллеях синели. Небеса опирались на снежные плечи отчизны…» — это более Поплавский, нежели Ходасевич, так мне кажется.