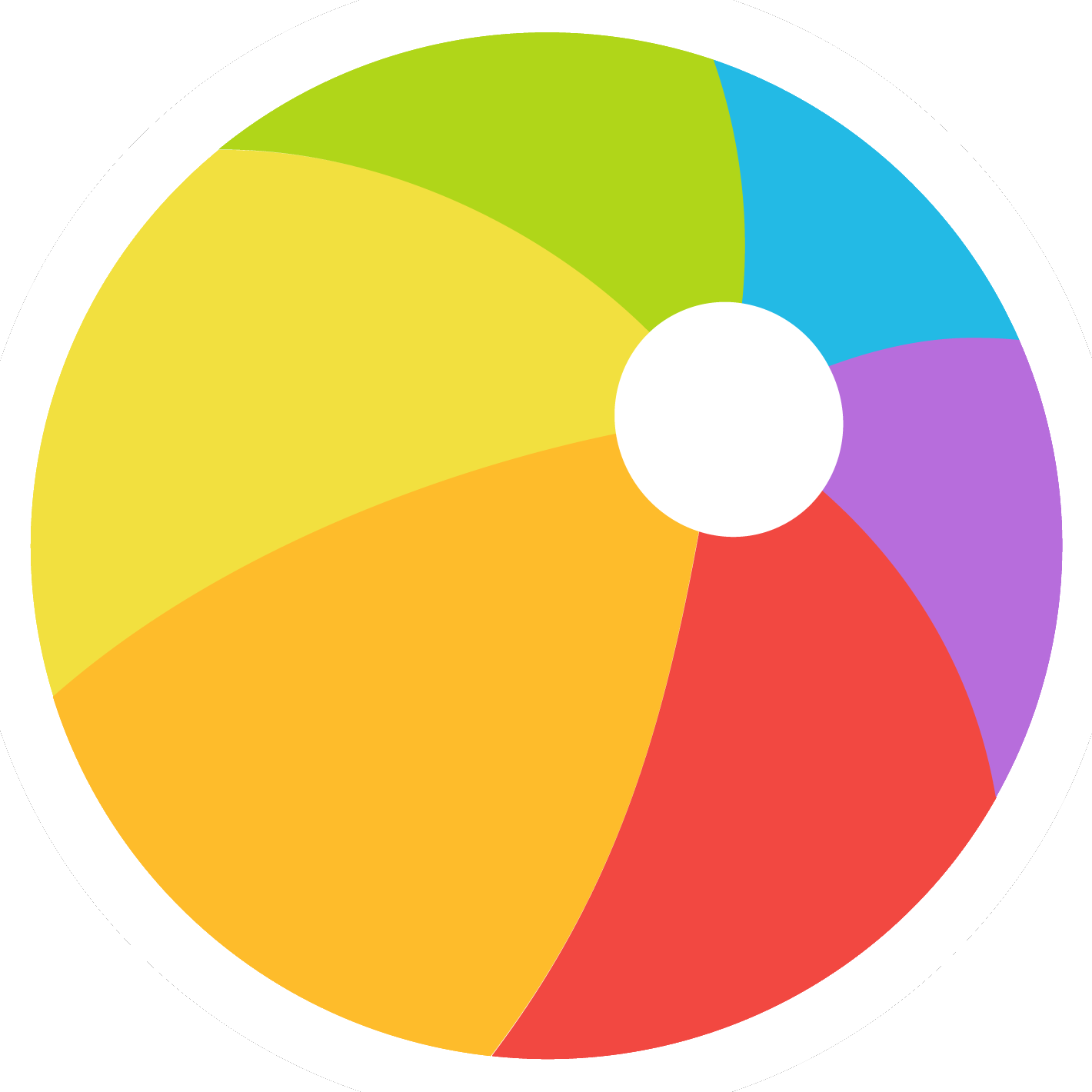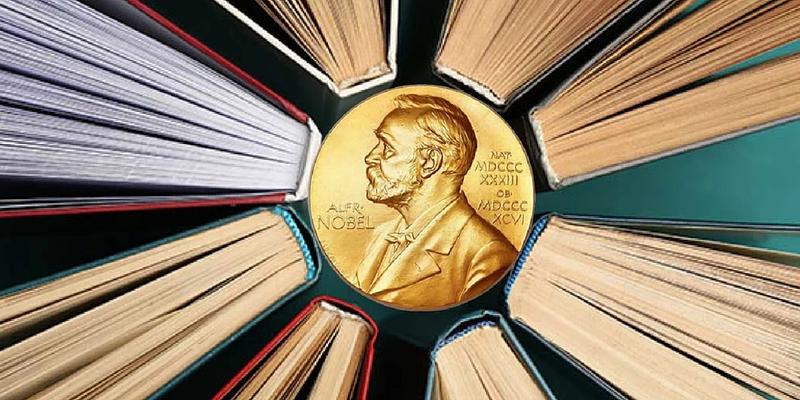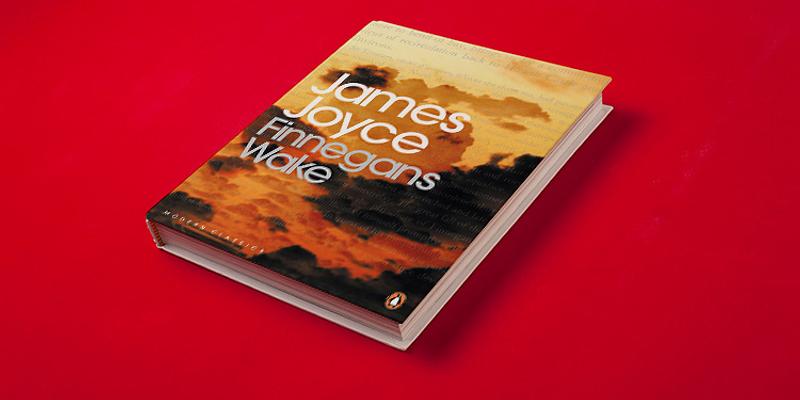Олег, произошла довольно радикальная смена парадигмы. Пруст написал единственную в своем роде книгу, подражать которой невозможно, он повесил за собой кирпич. Я не думаю, что литература потока сознания или литература такой джойсианской пестроты и метода, или уж тем боле джойсианская литература на таком макароническом метаязыке, как «Finnegans Wake» — я не думаю, что это сегодня возможно. У меня есть, наоборот, стойкое ощущение — очень горькое, кстати, ощущение — что когда «Поминки по Финнегану» наконец появятся по-русски, а насколько мне известно, наиболее продвинутый переводчик перевел уже треть романа, они не произведут никакого впечатления. Ну, «Поминки по Финнегану» — это великий текст, пока он загадка. А когда вы начинаете его читать, и примерно понимаете, про что там…
Я помню, Гениева, когда выступала на журфаке, а она все-таки была главный такой джойсианец и джойсовед наряду с Хинкисом, с Хоружим — она сказала, что как только вы продеретесь хоть немного сквозь язык «Поминок по Финнегану», вы поразитесь абсурдности и при этом бледности содержания этой книге. Ну, спят четыре человека: отец, дочь и двое сыновей. Мать не спит, мать вообще река, она течет сквозь все это пространство. Кабак называется «Here comes everybody» — «Сюда приходят все». Отцу снится, что он растлил дочь, и сейчас его будут за это судить. Сыновья выясняют между собой какие-то физические, химические, математические проблемы, довольно скучные. Дальше происходит попутно путешествие по музею всей человеческой истории. Она довольно смешная книга именно с точки зрения языка, с точки зрения замечательных языковых игр. Но в ней ничего особенного не происходит. И больше того, ничего, кроме этого ночного языка, как пишет Кубатиев, языка безумия джойсовской дочери, там ничего собственно интересного и нет.
Я вам больше скажу, мне кажется, что и у Пруста ничего особенно интересного нет, потому что это очень трогательно, конечно, что он восстанавливает утраченное время, но кой черт мне дело до его насыщенной жизни, кстати, даже не особенно и насыщенной? Когда дело дошло до «Пленницы», до «Беглянки», там мне стало интересна такая скрежещущая ревность, а в остальном это довольно бледное сочинение, как мне кажется, простите меня.
Поэтому давайте вместе порадуемся, что великая литература модернизма отошла в прошлое. Сейчас время коротких книг, коротких высказываний. Я это говорю как человек, написавший несколько очень длинных книг, и понимающий, что, наверное, я был безжалостен к читателю. Почему время таких книг наступило коротких, размером с уже упомянутую «Лолиту» или с «Бледный огонь»?
Набоков написал огромную «Аду», и «Ада» — самый нечитаемый из его романов, хотя бы потому, что это огромное эссе, количественно небольшое, но очень занудное, про текстуру времени, составляющее четвертую часть — это, конечно, софистика совершенно голимая и ничего не прибавляющая к нашему пониманию времени, такое старческое забалтывание бездны. Тогда как первые две части замечательны своей физиологической страстностью, прекрасной совершенно героиней, которую он зря, по-моему, называл шлюшкой.
Иными словами, время таких титанически больших, титанически сложных текстов ушло. И мне кажется, что великие бестселлеры ближайшего будущего будут размером с «Гекльберри Финна», не больше. Это связано не с тем, что сейчас эпоха клипа, или Твиттера, или Инстаграма, а с тем, что ускоряется все, и ускоряется в том числе чтение. Поэтому я в общем даже как-то отчасти рад, что пристанская эпоха завершилась.
Я очень надеюсь, что Кушнер меня сейчас не слушает, потому что Александр Семенович считает Пруста главным и самым поэтическим текстом XX века, я этого никогда не понимал. Я, кстати, вспоминаю, как Кушнер цитировал замечательную фразу Лидии Яковлевны Гинсбург: «Есть три признака, по которым можно определить гея — это любовь к Кузмину, Прусту и балету». На что он добавлял с такой ядовитой усмешкой: «Видимо, меня спасает то, что я не люблю балета». Вот здесь такое ощущение, что не то что спасает, от чего тут особенно спасать, но как-то, скажем, ограничивает. Пруст представляется мне главным мифом XX века, подобно Бунину, я не могу это принимать всерьез. Хотя понимаю, что это, наверное, великая проза.