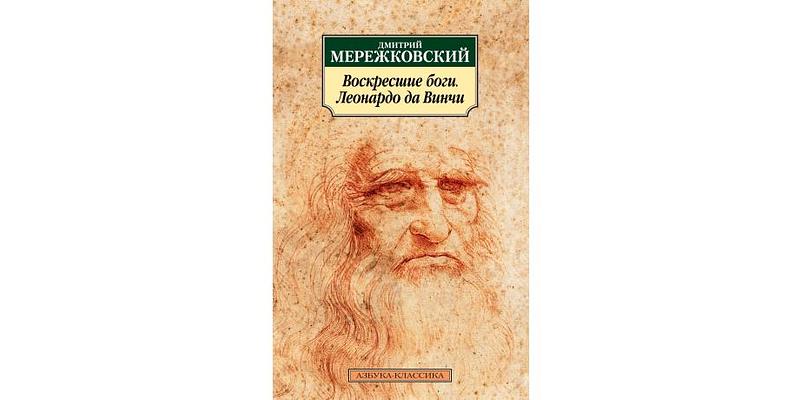Алексей Константинович Толстой, наверное, прав Леонид Зорин, одна из самых гармоничных и обаятельных личностей в истории русской литературы. И для меня до сих пор было парадоксом, почему этот феноменально и, главное, разносторонне при этом одаренный человек всегда воспринимался как-то в тени классиков первого ряда, хотя вот для меня, безусловно, он одним из них и был.
Конечно, когда ты пишешь одновременно со Львом Толстым, да и вдобавок жену твою тоже зовут Софья Андреевна, очень трудно быть первым Толстым, всегда ты оказываешься вторым. Конечно, Толстой одним своим существованием отодвинул большинство современников на второй план именно этим диктуется общая к нему скрытая недоброжелательность, за ничтожными исключениями.
Но Алексей Константинович, как мне кажется, по глубине своих историософских воззрений Толстому Льву не уступает никак. А главное — они не конкуренты, потому что Алексей Константинович прежде всего поэт. Как романист он оставил всего один роман, исторический правда, надо сказать. Здесь он тоже не конкурент Толстому, поскольку это выдержано в жанре тогда ещё не существовавшем — в жанре фэнтези.
И может быть, Алексей Константинович был пророчески прав в том, что о русской истории можно писать только фантастические романы, поскольку эти романы действительно отличаются чрезвычайно глубоким проникновением в самую суть психологии и Ивана Грозного, и Малюты Скуратова, и народа, который далеко не склонен к пассивному терпению, а в те времена ещё пытается кое-как влиять на свою судьбу. Во всяком случае, образы благородных разбойников — как ни крути, наиболее активной части народа, наиболее пассионарной — я думаю, они принадлежат, конечно, к самым бесспорным художественным удачам этой книги.
Ну, поговорим о Толстом в целом. Даты его жизни хорошо известны, их как-то легко запомнить: 17 —75. Да прожил он очень мало — 58 лет — даже на тогдашнем фоне. Все жалели о том, что он был ещё только в расцвете сил и таланта. Мы не знаем точно, была ли его смерть действительно результатом страшной ошибки (вколол он себе большую дозу морфия) или самоубийством (об этом тоже говорили). Он действительно очень страдал от мучительных головных болей и от астмы в последнее свое лето. Но этот вопрос как бы в его биографии не главный.
Интересно другое — почему автор столь разносторонний и одаренный оказался в сознании современников как-то оттенен другими фигурами, затеснен, во второй ряд затиснут без особенного, по-моему, на то основания? Алексей Константинович Толстой воспринимался многими современниками (ну, в частности, Тургеневым в некрологическом письме) прежде всего как, дословно цитируя, «человек он был хороший и добрый, и гуманный». Человек он был действительно очень хороший. И душа его видна в каждой строчке.
Но прежде всего оценивают именно эту его человеческую или гражданскую ипостась, забывая о том, что он был, во-первых, виртуозный и чрезвычайно одаренный лирик, автор нескольких бесспорных шедевров, которые первыми оценили композиторы, сочиняя в изобилии романсы на него. Ну, конечно, самый знаменитый — это «Средь шумного бала, случайно…». Но его исторические баллады, мне кажется, они заслуживают особенного восхищения именно потому, что Толстой вернул русской поэзии пушкинскую её тягу к сюжету и к мысли. Мысль у него всегда напряженно работает. И фабулу он излагает замечательно — так же, как Пушкин в «Женихе». Но Пушкин, как правильно писал Белинский, в этом роде много писать не стал — оставил один шедевр и перешел к разработке других направлений.
Исторические баллады, народные баллады Толстого замечательны своим лироэпическим синтезом. И особенно, конечно, баллады о богатырях, из которых лучшая, разумеется, «Илья Муромец»:
Под броней с простым набором,
Хлеба кус жуя,
В жаркий полдень едет бором
Дедушка Илья.
Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор.
Мы всегда это вспоминаем, на протяжении всей жизни, с детства, когда строчки эти певучие мгновенно запоминаются. Тут трудно не сказать каких-то банальностей о том, что, вообще-то, поэзия и должна быть певучей и мнемонически привязчивой, действительно западающей после первого чтения в память. И Алексей Толстой в этом смысле действительно очень музыкален и при этом афористичен. Ну, в знаменитой былине про Алешу Поповича, помните, где:
Я люблю тебя, царевна,
Я хочу тебя добыть,
Вольной волей иль неволей
Ты должна меня любить.
Это предельно просто, фольклорно просто — и тем не менее, и музыкально. Это единственно точные слова в единственном порядке. И вся его лирика — любовная ли, историческая ли — это тоже лирика, безусловно. Хотя вот лироэпический жанр традиционно исключают из лирического корпуса, и даже баллады его печатаются отдельным разделом. Но тем не менее это тоже лирика, потому что все-таки апеллирует она прежде всего к музыкальному, эстетическому нашему чувству, ну и разумеется, скорее к душе, нежели к разуму.
Его баллады замечательны тем, что Толстой отстаивает в них удивительный образ России. Он довольно много раз говорил о том, что не принадлежит ни к западникам, ни к славянофилам, а к той настоящей, подлинной России, которая мечтается нам всем и которая где-то была же до этого разделения. Сам он считает, что начало этому разделению положил, конечно, Грозный, который разделил народ на правильный и неправильный. В этом смысле он к Грозному относился не просто скептически. Мы знаем замечательные его слова из предисловия к «Князю Серебряному»: «Удивительно не то, что существовал такой тиран, а то, что существовало общество, которое этого тирана готово было терпеть». Ну, правда, на это наши современники возразят, что во всем мире в это время власть была весьма жестокой.
Но надо сказать, что и оппозиция этой власти была гораздо нагляднее. Нигде все-таки до такой степени пиетет перед властью не доходил до таких фантастических показателей, нигде царь не был помазанником Божьим. Кстати говоря, в драматической трилогии Алексея Толстого, в этом драматургическом шедевре, там польский посол прямо совершенно говорит Ивану Грозному: «Был у нас плохой король — мы выбрали другого». Как?! Как можно выбирать царя? Вот это для Грозного выше всякого разумения. Для него царь — это прямое продолжение Бога.
И вот Иван Грозный, как кажется Толстому, а в особенности, кстати, и Петр Алексеевич, который «заваривает крутеньку кашу» в его знаменитой балладе тоже,— они положили начало этому страшному расколу народа на две совершенно несовместимые его части. Грозный начал, а Петр Алексеевич это дело сильно укрепил. Конечно, отношение его к Петру Алексеевичу было во многих отношениях ироническим.
Он молвил: «Мне вас жалко,
Вы сгинете вконец;
Но у меня есть палка,
И я вам всем отец!..
Но это, впрочем, в шутку,
Петра я не виню:
Больному дать желудку
Полезно ревеню.
Хотя силен уж очень
Был, может быть, прием;
А все ж довольно прочен
Порядок стал при нем.
Но «История Российского Государства от Гостомысла до Тимашева» тоже сразу врезается в мозг.
И вот что мне кажется очень важным — что Толстой относил себя к той древней, неделимой, единой России, которая существовала до опричнины, которая существовала до искусственного и до сих пор непреодоленного (и теперь уже, может быть, непреодолимого) разделения. Понятно, что так проще править самодержавно, если одну половину народа все время натравлять на другую, натравливать систематически. Но, между тем, этот способ правления не только самый надежный, но и самый самоубийственный, как ни печально это звучит.
И вот в результате свой идеал общественного устройства и свой идеал государственного служения Толстому приходится искать в доопричной Руси, особенно, конечно, в России князя Владимира, в России богатырской, в России древней. И неслучайно в его знаменитой балладе «Змей Тугарин» идеалом устройства становится именно эта владимирская Русь, в которой Русь азиатская ещё не имеет никакого права. Ведь неслучайно Змей Тугарин — это такой представитель страшной тоталитарной азиатчины, азиатской хитрости, жестокости, насмешливости.
Конечно, этот идеал отчасти воплощен в Никите Серебряном, в знаменитом князе из романа, который вытеснен сегодня в область детского чтения. Но, между тем, не будем забывать, что и «День опричника» во многом сделан по матрицам именно этой книги, даже на уровне лексики. Это и понятно. Это влиятельный роман.
И кстати говоря, именно в начале знаменитого и тоже влиятельного романа Ольги Форш «Одеты камнем» два героя, два молодых, совсем еще… Ну, они не школьники, а они студенты там военного закрытого заведения. Они обсуждают именно роман «Князь Серебряный». И один из них (впоследствии как раз революционер, тот самый заключенный в равелин Болдуман-Бейдеман), он как раз с ужасом говорит, что Толстой не сумел достаточно объективно разоблачить тиранию, что по-настоящему это роман все-таки слишком мягкий и слащавый.
Но это роман, во-первых, колоссально читавшийся, очень читабельный, страшно увлекательный, во многом фольклорный и очень зависимый от замечательных фольклорных цитат, сказок, за́говоров и всего прочего… загово́ров. Но при этом, конечно, это роман совершенно лишенный какой бы то ни было социальности, которая была так в литературе востребована. Это не роман социальной критики. Это и приключенческая замечательная сказка, но мораль этой сказки, духовный посыл этой сказки совершенно несомненен: обречен город, разделивший сам себя, обречено общество, в котором один народ признан правильным и должным, а другой — гонимым и неправильным. Вот это роковое разделение на земщину и опричнину — это, можно сказать, главная историческая и культурная мишень Толстого, главная цель его полемики.
Может быть… Я иногда думаю: может быть, его недостаточная влиятельность или, скажем так, недостаточная, что ли, почтенность происходит именно от того, что он в духовной борьбе эпохи отказывался занимать конкретную позицию. Он как раз сказал вот эти знаменитые слова:
Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой острый меч,
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь.
Сегодня то, что делал Толстой, называлось бы «партией здравого смысла». Это, конечно, не совсем точно, потому что объективно нейтралитет у него все равно не получалось сохранить. С одной стороны — сановник, человек близкий ко двору, человек, который провел молодость в окружении наследника Александра II. Человек, который так или иначе был всё равно включен в эту вертикаль. Человек, который, правда, просился долгое время на покой и получил отставку. «Иоанн Дамаскин» — поэма, в которой как раз прочитывается этот посыл. Но тем не менее эта его позиция государственника, позиция человека, приближенного к трону, она ограничивала его известным образом в собственной литературной деятельности. Но, с другой стороны, получив полную свободу — формально по болезни, а на самом деле по полной несклонности к какой-либо придворной деятельности,— он в основном писал стихи, которые никак к охранительной тенденции отнести невозможно.
Больше того, я рискну сказать, что из всех русских сатириков Алексей Константинович Толстой самый отважный — наверное, потому, что он выступает опять-таки не с позиции того или иного лагеря, а с позиции здравого смысла. И именно поэтому бо́льшая часть его опасных стихов и опасных текстов выдержана в жанре абсурда. Вообще говоря, основоположником абсурдистской поэзии в России был Алексей Константинович Толстой — и именно потому, что все объекты его сатиры вели себя самым абсурдным образом.
И абсурдистские стишки Козьмы Пруткова, и его же абсолютно абсурдистские пародии, типа знаменитой «Фантазии», и то, в чем принимал Алексей Константинович особенно активное участие, тексты Фаддея Козьмича и ритуал его похорон,— это абсолютные шедевры, так называемые «Военные афоризмы» Фаддея Козьмича. И конечно, вот там, где на похоронах происходит полемика, здесь «железный коготь» Алексея Константиновича очень чувствуется:
Идут славянофилы и нигилисты;
У тех и у других ногти не чисты.
Ибо если они не сходятся в теории вероятности,
То сходятся в неопрятности.
И потому нет ничего слюнявее и плюгавее
Русского безбожия и православия.
На краю разверстой могилы
Имеют спорить нигилисты и славянофилы.
Одни говорят, что кто умрет,
Тот весь обращается в кислород.
Другие — что он входит в небесные угодия
И делается братчиком Кирилла-Мефодия.
И что верные вести оттудова
Получила сама графиня Блудова.
Ну и, конечно, настоящий шедевр, полный упоения, начинается там, где командир полка произносит свою речь. А он же все время критиковал Фаддея Козьмича с поэтической точки зрения. И вот теперь он произносит собственные стихи:
Господа офицеры и штаб-офицеры!
Мы проводили товарища до последней квартиры.
Отдадим же долг его добродетели:
Он умом равен Аристотелю.
Стратегией уподоблялся на войне
Самому Кутузову и Жомини.
Добродетелью был равен Аристиду —
Но его сразила простуда.
Я поручил юнкеру фон-Бокт
Устроить нечто вроде пикника.
Заплатить придется очень мало,
Не более пяти рублей с рыла.
Разойдемся не прежде, чем к вечеру —
Да здравствует Россия — Ура!!
Понимаете, я помню это до сих пор наизусть отчасти ещё и потому, что учитель мой Нонна Слепакова… У нее вообще «Военные афоризмы» были источником цитат на все случаи жизни. И всегда она не могла удержаться от хохота, цитируя вот это:
Я поручил юнкеру фон-Бокт
Устроить нечто вроде пикника.
Вот вся поэтика военная, вся эта попытка выглядеть лощеным при полной к тому неспособности — все это удивительным образом воплотилось в этом замечательном фрагменте.
Я вообще очень люблю военные афоризмы именно потому, что в них каким-то образом соединилось почти трогательное желание выглядеть образованным, просвещенным, лощеным и вот такая неотменимая армейская туповатость, которая, может быть, и составляет даже известный шарм и лоск.
Конечно, сатирические произведения Алексея Константиновича сильно определили свое время именно потому, что ему не было нужды как-то подделываться под условия и требования литературного канона. Он от этого канона отошел далеко. И кстати говоря, именно то, что эти стихи относятся к так называемой домашней семантике, то, что они не были рассчитаны на публикацию — это придает им такую прелесть и свободу.
Ну, вспомните, например «Послание Лонгинову о дарвинизме». Ло́нгинов… Я встречал ударение — Лонги́нов. Но, кажется, правильно — Ло́нгинов все-таки. В качестве цензора был довольно суров, а в качестве поэта он и сам позволял себе весьма много вольностей:
Стихи пишу я не для дам,
Все больше о *би-бип* и *бип*.
Я их в цензуру не отдам,
А напечатаю в Карлсруэ.
Что, собственно говоря, он и делал. Но при всем при этом он был удивительным ретроградом и выразил полное негодование по случаю «Происхождения видов», и книгу эту объявил возмутительной — в смысле возмущающей спокойствие. И вот ему возражает Алексей Константинович Толстой:
Право, Миша! Ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь попа,
И тебе обиды нету
В том, что было до потопа.
Да и в прошлом нет причины
Нам искать большого ранга,
И, по мне, шматина глины
Не знатней орангутанга.
И вот там это замечательное:
Брось же, Миша, устрашенья,
У науки нрав не робкий,
Не заткнешь её теченья
Ты своей гнилою пробкой!
Конечно, это рассчитано было именно на чрезвычайно узкий слой друзей и читателей А. К. Но тем не менее когда мы сейчас это перечитываем, нас поражает и вечная актуальность, и свобода, и ясность этого.
Понимаете, с одной стороны — злой и точный сатирик; с другой — бесконечно трогательный и нежный лирик; с третьей — замечательный автор поэтического сюжета. Это я ещё не коснулся его драматургии. И не коснулся просто потому, что она и так слишком известна. Все-таки стихи Алексея Константиновича Толстого знают немногие настоящие ценители поэзии, а «Царя Федора Иоанновича» видели все.
Я думаю, что и драматическая его поэма о Дон Гуане, и, конечно, в первую очередь драматическая трилогия («Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис»),— я бы рискнул сказать, что после Пушкина это лучшие драмы в стихах в русской литературе. А «Смерть Иоанна Грозного», между нами говоря, я бы рискнул сравнить с «Борисом Годуновым». Конечно, Пушкин первый. Конечно, Алексей Константинович очень учится у него во многом и отсылается сознательно. Но отважиться выступить на ристалище, на соревновании с первым русским поэтом, отважиться напечатать весьма удачную, кстати, драму о царе Борисе, в которой он предстает совсем не таким, как у Пушкина, в которой главная драма — это не отсутствие у него легитимности и не вина, тяготеющая на его совести, а главная трагедия Бориса Годунова — то, что он чужак. Драма чужака, который не приживается ни в русской вертикали, ни в русской горизонтали в ходе истории. Вот это очень интересно.
Ведь там у него Годунов и мудрый государственник, и замечательный, по-современному говоря, «разруливатель интриг» и конфликтов, и человек, в общем, далеко не злодейского склада. Но — не получается. Вот эта драма чужака решена у него замечательно. И надо сказать, что государственная позиция, государственная его мудрость о том, что в этой системе власти ни человечность, ни ум невостребованные и скорее самоубийственные,— это для своего времени тоже колоссальное прозрение, колоссальный прорыв.
Я не говорю уже о том, что «Царь Федор Иоаннович»… Вот эта довольно брутальная трагикомедия, в которой все реплики, все поведение этого царя, они так комичны, особенно когда он пускается размышлять о кулачном бое: «Под ложку опасайтесь бить друг друга! То самое смертельное есть место!». И все равно вот вся его трогательность, вся его вера, весь его гуманизм — это так смешно и так не встраивается в образ русской власти! Потому что здесь доброта преступна, вера неуместна, сострадание недопустимо, в этой вертикальной системе. Это страшное дело, конечно. Потому что в системе, построенной Иваном Грозном, в обреченной системе, первым обречен расплачиваться его сын — наиболее приличный человек во всей семье. Ну, таким он его видел, по крайней мере. Это на самом деле горькое и страшное пророчество о судьбе России. И пьеса эта с её удивительно человеческим и простым языком, с её великолепной сценичностью, драматическим напряжением — это, я думаю, украшает русскую драматургию навсегда.
Я уже не говорю о том, что сцена разговора царя со старцем-схимником (последнее, кстати, появление столетнего Анненкова на русской сцене), знаменитая совершенно, ну, я думаю, незабываемая действительно сцена, в которой всех военачальников перечисляет схимник, а Грозный отвечает: «И этого убил. И этот бежал. А этого я пытал,— все это рассказывает.— Никого у меня не осталось». Вот это страшное сиротство убийцы, да? Бедный сиротка-людоед, который скушал всех вокруг себя. Это тоже сцена гротескная.
И я думаю, что Толстой понимал главный секрет сценичности: по-настоящему сценичная вещь должна быть таким скрещенным процессом (по Мандельштаму), должна, если угодно, являть собой некоторый синтез жанров; ни чистая трагедия, ни чистая комедия уже невозможны. И поэтому у него все время во всей драматической трилогии чувствуется такая сардоническая насмешка автора над иллюзиями современников. И чувствуется потому, что за ним есть историческая дистанция. Поэтому и Грозный у него то страшен, то смешон. Поэтому и царь Федор Иоаннович вызывает то безумное умиление, то смех, то слезы. Поэтому и Борис вызывает чувство такое двойственное.
Мне вообще кажется, что именно эта двойственность, несводимость к одному шаблону, к единой конкретной позиции была главной трагедией Толстого. И может быть, именно поэтому он не приемлем для плоского восприятия, а приемлем для восприятия сложного, для сложного читателя. Вот остается верить, что именно сейчас, в сложное время, когда интеллектуализм несколько как-то реабилитирован в России, он по-настоящему своего читателя найдет.