Трумен Капоте — лучший из когда-либо родившихся американских писателей, хотя у него хорошая конкуренция. На второе место я поставил бы, вероятно, Стивена Крейна, на третье — всё-таки Фолкнера. Или Фолкнера, пожалуй, на одну доску со всей южной готикой. Капоте тоже формально к ней принадлежит, к той же традиции, что и О'Коннор, и Маккалерс.
Но вот в чём дело. Про Капоте очень хорошо написал когда-то Стайрон, он сказал: «Я тоже хороший писатель, но у меня фраза не звенит, а у Трумена звенит». Она clinks. Вот этот звон, конечно, проистекает от очень долгой работы над словом и удивительной способности писать очень чистую прозу — «чистый мускул, ни грамма жира», по определению Лимонова. Лучшая проза Капоте — это, конечно, то, что вошло в сборник «Музыка для хамелеонов», когда ему показалось, что он начисто разучился писать, и начал писать заново; очень крепко свинченные тексты. Но и ранний Капоте — надо вам сказать, проза его удивительно мускулиста. И очарование его литературы…
Ну что я вам буду за десять минут рассказывать о самом любимом писателе, ну просто самом любимом? Я люблю его больше, чем кого бы то ни было в мировой литературе, и люблю как друга, как современника; люблю с той степенью интимности, которую он всегда пытался вызвать у других, и думаю, не всегда он преуспевал, он не дорос до этого читателя.
Я вообще сейчас совершенно не беру его публичный образ. Как он говорил: «Я алкоголик. Я гений. Я гомосексуалист»,— в знаменитом интервью с самим собой. Это меня совершенно не интересует. Он вечный ребёнок, брошенный в ледяной мир. И вот его творчество — оно складывается из этих двух главных ощущений: ледяная безупречная гармония этого мира, его прекрасность, его фантастическая красота, и ужас одинокого ребёнка, брошенного в этот мир. Поэтому его проза так блистательна, такой ледяной блеск ей присущ, особенно, конечно, «In Cold Blood» («Совершенно хладнокровно»), и при этом она так сентиментальна, чувствительна. Это знаете, дыхание одинокого уязвлённого существа, которое оседает на ледяном стекле мира — вот так бы я сказал.
Первое, что я у него прочёл… Спасибо Алле Адольфовне Годиной, моему любимому учителю английского. Алла Адольфовна, привет вам. Я знаю, что вы меня слушаете. Самая молодая, самая красивая, самая любимая наша учительница, до сих пор такая же молодая и красивая. Вот Алла Адольфовна мне сказала, что лучший американский писатель — Трумен Капоте́. Я говорю: «Почему?» Она сказала: «Самый симпатичный». И действительно, проза Капоте необычайно симпатична.
Я получил тогда в подарок — правда, отдарился я полным Моэмом, рассказами, но знаете, этот обмен очень был выгоден со стороны моей, потому что, конечно, Капоте лучше Моэма в разы,— я получил тогда «Завтрак у Тиффани» и «The Grass Harp», («Луговая арфа» или «Голоса травы», в более точном переводе Митиной) и по-английски прочёл. Я в первый же день начал читать «Луговую арфу», и реветь жутко! Я разревелся на этой фразе, когда, помните, она замеряет рост этого мальчишки в кухне: «И сейчас, когда в кухне холод и на полу снег, эти зарубки там все ещё на косяке». Знаете, почему это было? Потому что любой дачный ребёнок обожает Капоте, потому что наша Южная Америка, наши Штаты Американские, наш Новый Орлеан — это наши дачи, эти пыльные летние домики.
И поэтому «Дети в день рождения» («Children on Their Birthdays»), который мне представляется лучшим американским рассказом, когда-либо написанным… Я тоже, знаете, я знаю, как это звучит, когда через дорогу играет патефон Victrola. Я знаю, что это такое, когда сидишь весь день в пекановом дереве. Ну, у нас было не пекановое, у нас был клён. Но я знаю очень хорошо, что такое быть этим южным дачным ребёнком в городе, где самые умные советы даёт судья, и обязательно есть свой городской сумасшедший. Это наши всё дачные грёзы: вот эти белые звезды табака, ослепительные и удивительные запахи ночные, которые не можешь выразить. Это наше лето, наши романтические влюблённости.
Кстати, «Дети в день рождения» — ведь он тоже безумно трогательный и сентиментальный рассказ. И дело не в том, что там гибнет мисс Боббит (и я совершенно не спойлерю, потому что там в первой фразе рассказа сказано, что мисс Боббит вчера сбил восьмичасовой автобус), а дело в том, что такое мисс Боббит. Понимаете, эта девочка, self-made girl железная, с её скрипучим голосом пронзительным, с её невероятной красотой и крутизной, с её танцем с показыванием попки («сильнейшее зрелище на американской сцене!» говорит героиня) — это всё, понимаете, удивительное сочетание силы и уязвимости. И эта её мать, которая страдает расстройством речи, и за всё время проживания в этом городе сказала вслух единственную фразу: «Ну что ж, цыплёнок есть цыплёнок».
Именно сочетание силы и безумной уязвлённости и хрупкости есть в Капоте́… в Капо́те. Ну, я привык уже к Капоте́, мне нравится его называть на французский лад, ведь он из Нового Орлеана. Капо́те пишет с поразительной и действительно прямо ощутимой мускульной силой, с замечательным жонглёрским блеском. Но за этой ледяной поверхностью стоит по-прежнему абсолютно уязвлённое, вечно обливающееся кровью детское сердце.
Понимаете, самое страшное, что есть в «In Cold Blood»,— это не публичная казнь убийц и даже не самоубийство Клаттеров, совершенно бессмысленное, кстати, и не история следствия, и даже не образ Перри, который такой, в общем, тоже одинокий мечтатель. А самое страшное там — это сцена аукциона, когда распродаётся имущество Клаттеров после их смерти, и в том числе продаётся старая толстая лошадь Малютка, которая уже не годна ни к какой работе и которую они держали из сентиментальных соображений. Вот здесь Капоте бьёт, конечно, читателя под дых.
Я читаю такой курс на журфаке, он называется «Журналистика как литература», и он о том, в каких случаях журналистика должна прибегать к приёму литературы. Вот журналистское расследование пишется тогда (как собственно и «In Cold Blood»), когда нет возможности проникнуть в душу героя — слишком чудовищно всё происходящее, и на помощь литературе приходит журналистика. Так вот, как раз «In Cold Blood» («Совершенно хладнокровно») — это такой самый классический текст нового журнализма.
И вы обратите внимание (я сейчас обращусь к молодым журналистам, студентам), как каждая фраза у Капоте насыщена информацией. Вот для того чтобы эти четыре главы, эти четыре выпуска «Нью-Йоркера» написать и опубликовать, он пять лет прожил, трясся, в этих мотелях западных, продуваемых всеми ветрами, и собирал факты. Каждая фраза «In Cold Blood» несёт в себе десятки биографических деталей, описания второстепенных и третьестепенных персонажей, там плотно сконцентрированные биографии. Это невероятное эстетическое совершенство! И какой бы бурной, и раздолбанной, и раздолбайской жизнью Капоте ни жил на протяжении своих 60 лет, он, конечно, работал как каторжник. И никогда не верьте тому, что он писал мгновенно и стремительно.
Сейчас вышел, в прошлом году (и я, конечно, зубами в него вцепился ), вышел сборник его 14 ранних рассказов. Они ещё очень наивны. Ну, это он писал в 16–17–18 лет. И «Летний круиз» наивен, хотя уже очень профессионален. Но он гениально описывал психологию детей. Взрослые никогда ему не удавались, а инфантилизм — в «Безголовом ястребе», наверное, в самом страшном американском рассказе «Дерево в ночи» («A Tree of Night») — это даётся ему бесконечно: ужас ребёнка, заблудившегося в мире.
И вот что я хочу сказать, хотя, наверное, на ночь не надо бы. Лучший рассказ об одиночестве, который я знаю,— это «Мохаве», вошедший в «Музыку для хамелеонов». Лучший триллер, вещь, от которой мне действительно было страшно,— это «Самодельные гробики» («Handcarved Coffins»).
Я хорошо помню, как я в одном американском доме жил, когда читал лекции в Чапел-Хилле. Меня поселили в хороший домик, такой уютный. Хозяева уехали, и я месяц там прожил, как раз «ЖД» писал. И вот я помню, я купил «Музыку для хамелеонов», ночью читаю — и мне надо выключить свет. А выключатель в другом конце комнаты. Так мне, ребята, страшно было ноги с кровати спустить, я так при свете и спал. Ну это очень здорово сделано! Почитайте.
И финал «Самодельных гробиков», когда этот предполагаемый убийца, опуская руку в воду, и она лентами течёт между его пальцами, он стоит и говорит: «Уж это Бог так управил, его святая воля». Это образ Бога самый страшный, наверное, в американской литературе. И там ведь непонятно, кто убил. Это детектив без разгадки. Ну, почитаете.
И такие рассказы, как «Мириам», и «Ночное дерево», и «Воспоминания об одном Рождестве»,— это всё, конечно, величайший триумф. Спасибо Ясену Засурскому, который нам это сказал: «Хороший писатель может писать во всякое время, а гений — не во всякое».




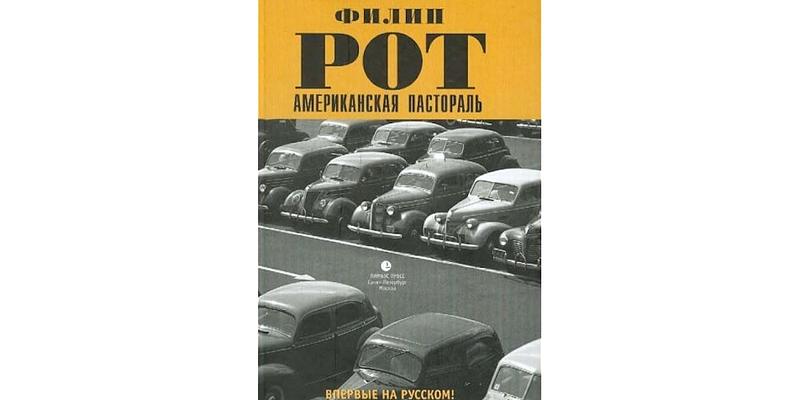






Знаете, вот, я еще до того, как начал читать Капоте интуитивно понял, что он мне будет близок, и не ошибся. У меня так было с немногими авторами, также например, было с Набоковым, я как-то сразу понял, что это будет мой писатель. И с Юкио Мисимой.
Также так было с кинематографом Лукино Висконти! Я как-то подумал, что это будет мой любимый режиссер, так и оказалось!
И с философией Ницше, был влюблен в его идеи до того, как прочитал сами его книги! Вот так сказать мои литературные любимцы. Это не все авторы, кто мне нравится и близок, но в интимном плане одни из самых близких.