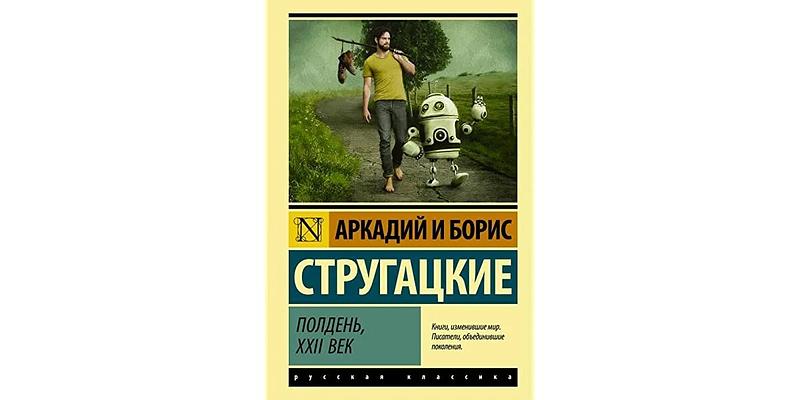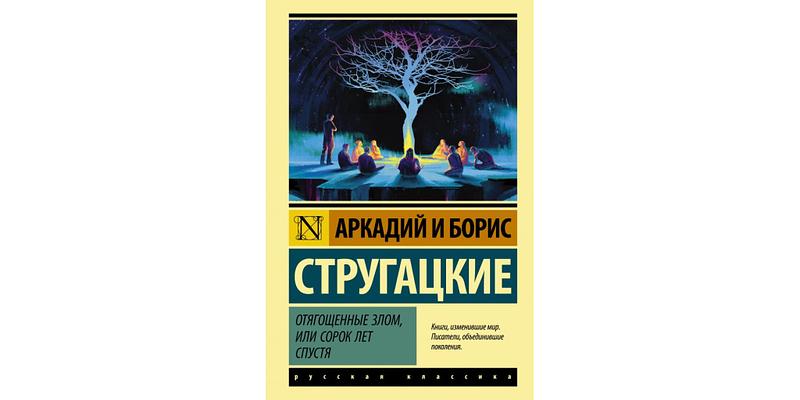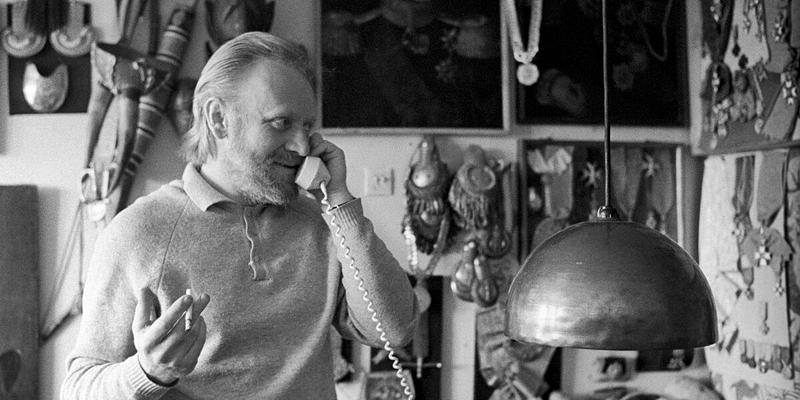Просто качественной фантастики сегодня не так много и пишут. Есть, конечно, авторы типа Нила Стивенсона, есть масса других персонажей, которых я сейчас просто не вспомню, но всегда очень обидно бывает. Есть весьма твердая, что называется, классическая фантастика в кларковском духе, цветет и пахнет альтернативная история, которая тоже не фэнтези. Но ее, действительно, экранизировать перестали именно потому, что фэнтези, во-первых, удобнее сериализируется, а сериал, что ни говори,— главный жанр современной экранизации. А во-вторых, фэнтези приятнее смотрится, как-то она веселее, примитивнее. Для того чтобы снимать хороший science fiction, будь то «Космическая одиссея» Кубрика, будь то «Солярис» Тарковского, будь то «Турбаза «Волчья» Хитиловой, и так далее, все-таки надо быть мэтром, надо быть мастером. Для того чтобы снимать будущее, надо иметь его концепцию. А экранизация фэнтези — это как снимать фильм-сказку. Это тоже требует таланта, но таланта другого. Это не концепция нужна, а зрелище. И с этим, надо полагать, довольно многие справляются. Большой проблемы здесь нет. Я боюсь, что настоящего science fiction сегодня нет ещё и потому, что концепция будущего отсутствует — что в русской фантастике, что в зарубежной. Практически все, кто предлагает новые варианты будущего, перепевают либо Хаксли, либо Замятина, даже Стругацких, мне кажется. Даже до них, давно уже живших и работавших, никто уже не может допрыгнуть. Это довольно печально.
Я не вижу пока того, о чем говорил Борис Стругацкий: того прорыва фантастики, который был бы сравним с появлением Уэллса или Азимова. Я не вижу новых направлений. Киберпанк в одно время явился, но это, скорее, переименование, чем прорыв. Мне кажется, что иногда появляются остроумные идеи, вроде идей в «Алмазном мире» у Стивенсона, но все равно мне кажется, что это все слишком человеческое, и все равно это идея тех же карассов у Воннегута. Там люди объединяются в страны по добровольному выбору. Это милая идея, но как-то, во-первых, не сюжетообразующая, а во-вторых, ничего такого ослепительно нового я в ней не вижу. Может быть, какие-то попытки приплести к фантастике какие-то новые области науки — не столько технику, сколько какие-нибудь науки гуманитарные или социальные,— вот из этого может что-то перспективное получиться.