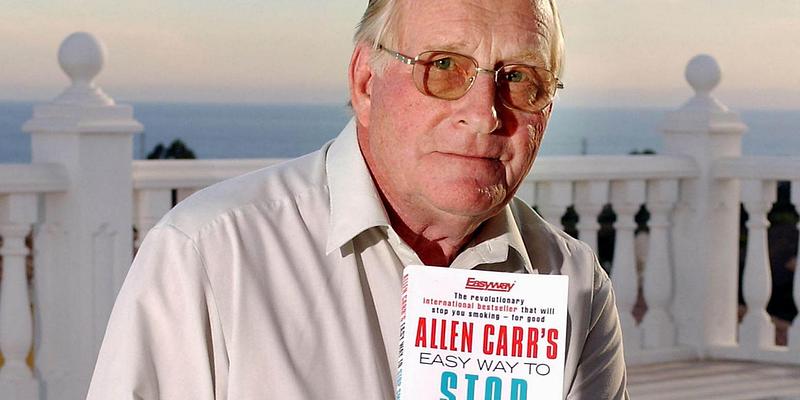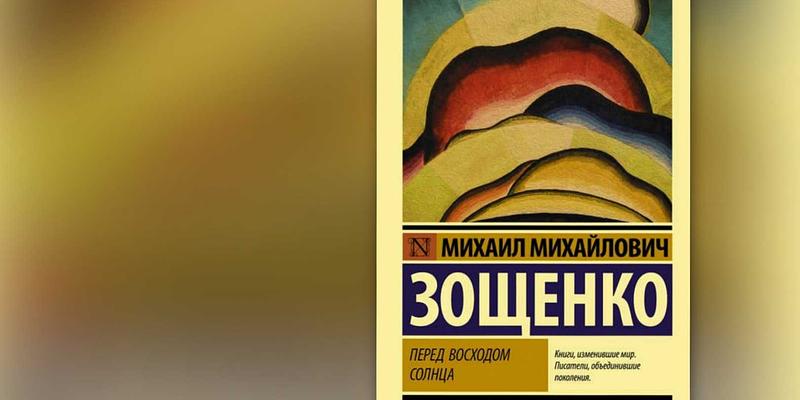Не иронично он высказывался. Понимаете, не надо об этом так говорить. Вот давайте про исторические его произведения. Ошибочно было бы думать, что «Голубая книга» — сатирическое произведение. Зощенко — абсолютно искренне полагал, это было у него, я думаю, умозрительное убеждение, но вполне искреннее, что время литературы серьезной прошло. Потому что массовым читателем ХХ века является обыватель. Конечно, время утонченной, изысканной, серьезной литературы, какой была литература символистов, взрастившая, вскормившая Зощенко, это время прошло. В «Мишеле Синягине» это сказано открытым текстом.
Время утонченных ценителей, серьезных людей вытеснилось. И для Зощенко одной из ключевых фигур новой литературы был Александр Тиняков, который попал у него в «Перед восходом» в образ страшного нищего. Тиняков — символист, который восторженно преклонялся перед Брюсовым. Символистом он был: плохим при молитвенном своем преклонении ничего оригинального из себя не представлял. Но он удивительно чувствовал время. И, когда настали 20-е годы, он начал превращаться не просто в мизантропа, а в люмпена. Да, он стал нищим, при этом он был осведомителем, он катал доносы в ЧК. При этом он мучал и замучил до смерти старуху, которая жила у него за стеной. При этом он нищенствовал открыто и зарабатывал гораздо больше. Это был омерзительный образ грязного, но сытого нищего, зловонного, но сытого. Он даже зажирел несколько, вспоминает Зощенко, потому что ему хорошо подавали. Питался гнилью, но питался хорошо. И вот страшный этот образ гниющего при жизни человека оказал на Зощенко огромное влияние.
Зощенко больше всего боялся нищеты, боялся стать нищим. И это с ним произошло, когда он лишился заработков литературных, когда вынужден был вспоминать сапожное ремесло. И он умер именно от того, что у него обострилось всегда его преследовавшая депрессия. Она перешла в форму панических атак, страхов постоянных. И он уморил себя голодом под конец, потому что, когда его реабилитировали, это оказалось последним ударом, который его добил. Этого эмоционального потрясения он не вынес. Последняя его поездка была в Ленинград за грошовой пенсией. Он всю жизнь страдал от депрессии, корни которой пытался постичь. Пытался по-павловски рационально уничтожить ложные связи в своем мозгу.
Он понимал, что у него страх бегущей воды, пытался понять, откуда он взялся. Страх грозы. Пытался с детскими воспоминаниями это связать. На самом деле страх Зощенко был той природой, о которой писала Надежда Яковлевна Мандельштам: эсхатологические ощущения человека, который застал конец эпохи. И главное, фундаментальное убеждение Зощенко заключалось в том, что прежняя литература и прежние читатели умерли. И действительно. А главным потребителем литературы, его главным героем стал герой его рассказа «Баня». Вот он требует литературы. И Зощенко еще в огромной степени, потому что он был заложником этой аудитории, заложником своей связи с ней, своей славы отчасти, потому что эта аудитория требовала беспрерывного воспроизводства таких текстов. Она не давала ему расти. Он оказался на эстраде, где его захлопывали, стоило ему заговорить серьезно. И стоило ему сказать «пущай, пущай жрут» — вот это да, это любили. Он сразу же стал очень зависим от этой среды.
А слава была действительно такая, что он мог издать книгу читательских писем к нему. Выходили книги рецензий на него. Он был самый востребованный писатель поколения. Вы не можете представить сегодня, что это такое. И поэтому Зощенко пришел к довольно парадоксальному выводу. Ему отчасти этот вывод подсказал Горький. Горький, человек весьма неглупый, стал думать, что может делать в эпоху 30-х годов твердевших социальных рамок и границ, твердевшего тоталитаризма — что в эту эпоху может делать сатирик. Такой, как Зощенко. Он и о Платонове думал что-то подобное. Но Платонова он в эту эпоху никак вписать не мог. А Зощенко вписывался.
Он ему написал: вы гениально стилизуете обывательскую речь. Попробуйте этой речью написать историю человечества. Зачем? Да для того чтобы ваш читатель-обыватель это понимал. И, братцы, вот так появилась «Голубая книга», которая на самом деле абсолютно всерьез написана. Флит в своей пародии замечательной очень точно ее стилизовал: Людовик не то XV, не то XVI вылакал, куриная морда, еще пол-литра шампанского. Да, он действительно так описывал великие потрясения эпохи. Он так описывал Французскую революцию, Клеопатру, «Коварство и любовь». Он ставил себе серьезнейшую задачу описать, условно говоря, как историческая книга инкриминирована в мораль. Как мораль меняется от эпохи к эпохе под воздействием социальных катаклизм. Но это мы с вами можем говорить таким языком. А Зощенко пишет об этом языком обывателя, языком управдома. Он действительно хочет, чтобы великие потрясения, великие эпохи, великие люди предыдущих 2 тысячелетий были поняты вот этим водопроводчиком и, еще хуже, бюрократом-управдомом, люмпеном.
И, когда этим люмпенским языком описывается мировая история, возникает, с одной стороны, страшный комический эффект. Это очень смешно, «Голубая книга». А с другой, возникает ужасная мысль о том, что венцом 2 тысячелетий мировой истории оказался управдом. Эта мысль, что он сейчас распоряжается судьбами. Швондер на вершине эволюционной пирамиды. Эта мысль многих посещала. Не зря же, говорит Бендер, графа Монте Кристо из меня не вышло — придется переквалифицироваться в управдомы. Это тоже итог великой библейской эпопеи. Единственной эпопеей ХХ века в России, помимо «Тихого Дона», оказалась дилогия о Бендере. Причем дилогия о Бендере гораздо более акцептируема и читаема.
Приходится признать, что результатом российской революции, которая была воплощением лучших мечтаний человечества, стала фигура массового человека, героя Зощенко, который только к 70-м годам в России под действием всеобщего среднего образования создал эту среду образованскую, интеллигентскую, до чего-то дорос. В 30-е годы это выглядело как полновесное торжество недоумка, как торжество человека, с которым можно разговаривать только вот таким языком трамвая и подворотни.
Зощенко стал честно и искренне писать на этом языке. У него получилось великая эпопея торжества идиотизма. Кстати говоря, так оно и было. Другое дело, что СССР этим не ограничивался. Он эволюционировал. Но то, что 90% всплывшего со дна люмпен-сообщества говорило вот так, как герои Эрдмана, как герои Зощенко — да, это так. И Зощенко оставил нам самый точный памятник этой речи. Потом он нашел несколько более, на мой взгляд, адекватный жанр. Он научился сначала научные теории излагать языком обывателя — и появилась «Возвращенная молодость». А потом то ли читатель повзрослел, то ли война настроила на более серьезный и аскетический лад: он научился предельно просто, с абсолютно толстовской гениальной простотой излагать истории из своего детства.
Мне кажется, что «Перед восходом солнца» — главная его книга и лучшая. И я совершенно солидарен с книгой Жолковского «Поэтика недоверия», где доказывается, что лучшая проза Зощенко — маленькие автобиографические новеллы, в которых он описывает микротравмы своей психики. Эти точечные кровоизлияния. микроинсульты, которые он в течение жизни духовно переживал. И в случае неловкости, обиды, глупости, самоубийственного самолюбия, каких-то безумных совершенно саморастрат и т.д. В сущности «Перед восходом солнца» — антология ошибок. Это «Голубая книга» применительно к себе. Описание главных катастроф и ошибок человечества, но на примере собственной биографии. Но при этом это гениальная проза. Нельзя не заметить того, что это лаконично, лапидарно, это так же сложно по сути и просто по форме, как проза позднего Толстого. Поздний Зощенко движется в толстовском направлении. И толстовскую тему у него еще никто не исследовал. Только вот Щеглов и Жолковский анализируют поэтику поздней прозы Толстого, находя в ней безусловные сходства с поздней прозой Зощенко. Такой же стремительный, лапидарный и в главных чертах очень выразительный, конечно. Поэтому книга «Перед восходом солнца» — во-первых, великолепный пример ошибки, потому что человек пытается отыскать истоки своей депрессии не во времени, а в себе. Но это еще и великий пример самоанализа и пример удивительной прозы, понятной всем. Универсальной. Страшной, стремительной и тучной.