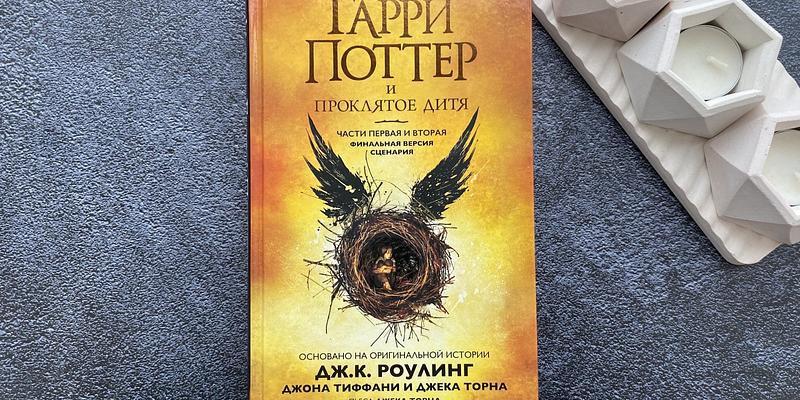Судьба Марии Шкапской представляется мне, наверное, одной из самых трагических судеб русского XX века. У меня есть о ней довольно большая статья «Аборт», которая напечатана в журнале «Огонёк» миллион лет назад, но, конечно, о Шкапской надо говорить, мне кажется, по-новому, потому что всё больше популярности набирает сейчас её лирика и всё больше она становится символом собственной эпохи.
Что мне вспоминается прежде всего? То, что я больше всего и люблю:
Петербурженке и северянке — мил мне ветер с гривой седой, тот, что узкое горло Фонтанки заливает невской водой. Знаю, будут любить мои дети невский седобородый вал, потому что был западный ветер, когда ты меня целовал.
Это так здорово, что даже просто необъяснимо! Тем более что я особенно люблю у Шкапской её стихи, написанные в строчку, и здесь об этом следует поговорить более подробно, но я сначала очерчу её биографию.
Биография её трагическая, страшная. Шкапская была дочерью душевнобольного отца, который потом просто с ума сошёл, и для того чтобы содержать семью, ей буквально с 15 лет приходилось давать уроки. А потом она довольно быстро оказалась в ссылке, которую ей так милое царское правительство заменило высылкой. Ей разрешили уехать в эмиграцию. Она поехала в Париж и там познакомилась с Эренбургом. Эренбург как раз в это время выпускал цикл стихов, написанных в строчку, у него была такая удивительная особенность. У меня была статья «Илья формотворец»… Грех себя цитировать, но действительно он формотворец, который создавал новые методы, а вот наполнять эти новые формы он, как правило, не умел, и это приходили делать другие люди. Он написал первый русский плутовской роман «Хулио Хуренито», а славы с этим добились Алексей Толстой с «Ибикусом» и Ильф и Петров с Бендером. Он написал, как мне кажется, лучший роман о войне, «Бурю», а потом Литтелл его переписал — и «Благоволительницы» стали хитом. Ну, он в этом же духе написал роман, вот так бы я сказал, там главный герой тоже антрополог. Он начал писать стихи в строчку. В русской поэзии, помимо ещё Льдова (Розенблюма), по-моему, он первым стал это делать. Он открыл особый жанр, и они хороши у него были. Но Шкапская стала это делать не хорошо, а гениально.
Следует понять, какие стихи можно написать в строчку. Я сам этим, в общем, грешен — у меня довольно много стихов в строчку. Очень интересно понять, а кто собственно может это делать, а кто — нет; какие стихи выдерживают написание в строчку, а какие — нет. Знаете, это как без знаков препинания. Иногда, когда поэт написал банальность, он думает, что если он сейчас её перепишет без знаков препинания, то это будет высокая поэзия. Когда стихи без знаков препинания пишет Алексей Цветков — это одно. А когда, например, Сергей Шестаков, то — другое. Не хочу никого обидеть, но просто видно же, что иногда отказ от знаков препинания — это чисто формальный приём, позволяющий банальности выглядеть небанально.
А вот стихи в строчку — понимаете, тут контраст. Конечно, они не должны быть прозоподобные. Наоборот, искра должна высекаться от столкновения чрезвычайно патетического текста и вот такой прозоподобной, в строчку его записи. Этот закон открыла Шкапская. Чем более напряжённый, динамический, плотный стиховой ряд, тем больше шансов, что переписанные в строчку эти стихи зазвучат иначе и лучше. Это прекрасно использовал Катаев. Я помню, как он Николая Бурлюка переписал в строчку в «Траве забвения» — и гениально зазвучали эти стихи! Дело в том, что когда вот такая построчная запись стихотворения соответствует его поэтическому пафосу, нет контраста, нет какого-то дополнительного перца, дополнительной терпкости. А когда явный поэтизм, явно поэтические, очень высокие стихи переписаны в строку, возникает ощущение какой-то дополнительной горечи. Ну, посмотрите, как это делает Шкапская:
Ты стережёшь зачатные часы, Лукавый Сеятель, недремлющий над нами,— и человечьими забвенными ночами вздымаешь над землёй огромные весы. Но помню, чуткая, и — вся в любовном стоне, в объятьях мужниных, в руках его больших — гляжу украдкою в широкие ладони, где Ты приготовляешь их — к очередному плотскому посеву — детёнышей беспомощных моих,— слепую дань страданию и гневу.
Ну, это прямо ямбы, это чуть ли не Барбье по интонации! А перепишешь в строчку — и вот именно получается путешествие идеального через реальное, высокая поэзия, погружённая, заглублённая в прозу.
У неё было много очень сильных стихов — и предреволюционных, и особенно послереволюционных в сборнике «Кровь-руда», в сборнике «Барабан строгого господина» (названного по строчке Елены Гуро «Мы все танцуем под барабан строгого господина»). Это на самом деле великолепная, мощная послереволюционная лирика, потому что действительно революция как бы отворила кровь. Она как бы отворила кровь у Шкапской, когда хлынули эти стихи — кровавые, солёные, горькие и очень физиологичные. В революции было что-то подобное кровотечению, такому рождению. И это, может быть, страшно истощало страну, но то, что хлынуло,— это была кровь чистейшая, чистейшая кровь литературы в том числе, как ни ужасно это звучит.
Весёлый Скотовод, следишь, смеясь, за нами, когда ослепшая влечётся к плоти плоть, и спариваешь нас в хозяйственной заботе трудолюбивыми руками. И страстными гонимые ветрами, как листья осенью, легки перед Тобой,— свободно выбранной довольны мы судьбой, и это мы любовью называем.
Видите, здесь ещё и нарочитые ритмические сбои, и рифмы повисающие, потому что с этим создаётся ощущение корявой судьбы.
Лежу и слушаю, а кровь во мне течёт, вращаясь правильно, таинственно и мерно, и мне неведомый нечеловечий счёт чему-то сводит медленно и верно. Алчбой бескрайною напоена струя, ненасытимая в её потоках хищность, через века сосудов новых ищет — и вот — одним сосудом — я.
Тема крови — крови-руды, крови менструальной, крови родовой, крови, которая коловращается таинственно и темно в теле,— это вечная тема Шкапской. И надо сказать, что её поэзия действительно ужасна физиологически.
О, дети, маленькие дети, как много вас могла б иметь я меж этих стройных крепких ног,— неодолимого бессмертья почти физический залог.
— это то бесстыдство, которого мы и у Ахматовой не найдём. Это физиологизм истории, физиологизм кровавых времён. И в этом смысле Шкапская — пожалуй, единственный поэт, который времени своему адекватен.
Что знаю я о бабушке немецкой, что кажет свой старинный кринолин, свой облик выцветший и полудетский со старых карточек и блекнущих картин?
О русской бабушке — прелестной и греховной, чьи строчки узкие в душистых billet-doux, в записочках укорных и любовных, в шкатулке кованой я ныне не найду?
От первых дней и до травы могильной была их жизнь с краями налита, и был у каждой свой урок посильный и знавшие любовь уста.
О горькая и дивная отрава!— Быть одновременно и ими и собой, не спрашивать, не мудрствовать лукаво и выполнить урок посильный свой:
Познав любви несказанный Эдем,
Родить дитя, неведомо зачем.
Это такая безысходность, которая потом у Слепаковой тоже очень интересно отозвалась:
Поставлю за неслыханную плату
Для вечности, не нужной никому.
Прекрасное, очень женское понимание тленности и бренности всего. Нет, конечно, Шкапская — большой молодец.
Помимо этой физиологичности нельзя не отметить того, что отмечали у неё и Луначарский, и нынешние исследователи, и все, о ней писавшие,— её библейских корней. Её обращение к Богу, конечно, во многом ветхозаветное, непримиримое. «Но Ты из Недобрых Пастырей, Ты Незаботливый [Неразумный] Жнец»,— знаете, это интонация вопрошания, но даже я бы сказал — грозного вопрошания, что-то есть от Иова в её поэтике. Она от Бога требует ответа, отчёта. Это не потому, что у неё есть (как сейчас многие напишут) какие-то еврейские корни. Да их, по-моему, и не было. Ну, это неинтересно. Интересно другое — что вообще Русская революция вызвала к жизни именно ветхозаветную традицию, потому что перед нами вот те самые руки Творца, о которых она пишет — «похожие на мужнины объятья». Перед нами руки Бога, который грубо лепит земную и человеческую глину, поэтому и разговор с Богом приобретает совершенно новую интонацию — интонацию требовательную, гневную.
Пускай живёт дитя моей печали,
Залог нечаянный отчаянных часов,
Живое эхо мёртвых голосов,
Которые однажды прозвучали.
Так черноморских волн прибой в начале
Угрюмой осени плачевен и суров,
Потворствует [покорствует] неистовству ветров,—
Но держится челнок на тоненьком причале.
Вот это ощущение бури, в которую вдвинут человек, ощущение катастрофы, в которой он живёт,— это всё у неё чрезвычайно живо и наглядно.
Я вообще считаю, что Светлана Шкапская, её дочь героическая, которая столько сделала для возвращения наследия матери… Она сумела вернуть из небытия её ненапечатанные стихи, заговорить об её судьбе. И прекрасно, что вот это дитя, которое рождено для ненужной вечности, оказалось и благодарным, и понимающим, и чутким. И слава богу, что Шкапская нашла вот такой отзвук в будущем.
Я знаю, что её первая книга после смерти (большой сборник её стихов) вышла сначала в Штатах. Потом в Германии её довольно много печатали. В Россию её вернул (и моя вечная ему тоже благодарность) Евгений Александрович Евтушенко, который большую её подборку в своих «Строфах века» напечатал сначала в «Огоньке», а потом она перешла, соответственно, и в антологию. Евтушенко гениально вернул в русскую поэзию множество прекрасных имён — в диапазоне от Юрия Грунина, который при жизни удостоился признания благодаря ему, до Александра Кочеткова, «Балладу о прокуренном вагоне» которого он напечатал уже посмертно. Правда, там ещё Рязанов её вернул в «Иронии судьбы».
Надо сказать, что огромный слой этой потаённой поэзии, а особенно поэзии 20-х годов — поэзии Адалис, поэзии Барковой, поэзии Шкапской — он тоже возвращался к нам медленно, постепенно. Почему женщины (во главе с Цветаевой, конечно, и с Ахматовой отчасти, потому что Ахматова очень быстро замолкает) в это время, в 20-е годы, взяли на себя миссию — написать о главном, о самом страшном? Знаете, наверное, потому (рискну я сказать), что женщина органически бесстрашнее. Женщине приходится рожать, поэтому с кровью, с физиологией, с бытом она связана более органически. И там, где мужчина замолкает или в ужасе отворачивается, или пишет антологические стихи, или что-нибудь греческое, римское,— там женщина подходит прямо к этому источнику страданий. И поэтому Шкапская написала в это время несколько действительно гениальных стихотворений.
А что случилось потом? Общеизвестно, что случилось потом. Потом она попыталась… Кстати говоря, её довольно высоко ценил Блок. Она вошла в Союз поэтов, даже в правление Союза поэтов. Она издала, насколько я помню, шесть книг всего, и все они были превосходные, и очень хорошо были приняты. Шкловский высоко её оценил, Тынянов очень высоко оценил её. Кстати, и Ахматова, невзирая, наверное, на неизбежный элемент поэтической ревности. Но довольно скоро — уже в 1924 году — Шкапская замолчала. Довольно трагическое зрелище — наблюдать, как она писала в это время, пытаясь каким-то образом ещё вызвать поэтическое вдохновение, пытаясь вернуть себе голос. Эти стихи производят впечатление какого-то скрежета. Вроде бы они радостные (типа «Привет весне от ленинградского поэта!» — что-то такое), она пытается описывать свой радостный город, она пытается описывать строительство, пытается говорить о каких-то новых временах, но всё время чувствуется ужас, отчаяние, иногда бешенство.
Она не напечатала эти последние стихи, слава богу. Так получилось, что она не стала больше публиковаться. Она как бы абортировала, как бы выкинула себя из поэзии. Это довольно трагическое явление, но это показывает, что тот период поэтического молчания, который наступил у всех — в диапазоне от Мандельштама и Маяковского до Ахматовой и даже впоследствии до Цветаевой,— это неизбежная вещь, это историческая объективная закономерность. Конечно, очень горько говорить об этом.
Что Шкапская делала дальше? Дальше она изобрела такой новый род искусства — она стала делать информационные коллажи. Она стала клеить альбомы, в которые она наклеивала свои впечатления, вписывала иногда рецензии, какие-то вырезки газетные, какие-то записки, билетики — такую хронику времени. Множество этих пожелтевших альбомов сохранилось. Они никакой ценности, конечно, не представляют, но они показывают, что делал большой поэт, когда ему делать было больше нечего.
Понимаете, это ведь на самом деле довольно трагическая тема: что происходит с поэтом, когда он не может больше писать? Иногда он стреляется. Иногда он умирает просто по физическим законам (как замечательно написал Замятин: «Блок умер не от чего. Блок умер от смерти»). Иногда он умирает. Иногда он продолжает жить, как это ни ужасно, и пишет какие-то квазистихи, какие-то поэтические суррогаты. А иногда он переходит на прозу — и тогда получаются иногда великие тексты, а иногда никакие.
Вот Шкапская пыталась заниматься литературой, пыталась искать себя в журналистике. Она выпустила несколько очерковых книг, очень плохих. Она по совету Горького (тоже мучительное занятие!) начала писать дикую историю фабрик и заводов. Горький пытался устроить коллективный труд. Как когда-то он во «Всемирной литературе» спасал людей, давая им переводы, предисловия, так он давал им теперь писать эти дикую, совершенно бессмысленную историю фабрик и заводов — когда несчастный Вагинов, умирая от туберкулёза, ездил на завод «Светлана» и писал об электрических лампочках, когда Шкапская писала о какой-то иваново-вознесенской фабрике тоже.
Я это говорю не от презрения к фабричной жизни. Многие, конечно, скажут: «А, вот вы питаетесь сами всю жизнь плодами трудов, а к этим трудам так пренебрежительно относитесь!» Нет конечно. Я очень уважаю эти труды. И именно одна из форм этого уважения — то, что я не пишу о них конъюнктурных текстов, то, что я не пытаюсь сочинять историю фабрик и заводов. Надо уважать этот процесс, а не втягивать его в насильственную, скудную и уродливую литературу. И сохранилась до сих пор, и где-то лежит в архивах эта огромная рукопись-машинопись Шкапской и об истории иваново-вознесенской какой-то ткацкой фабрики, и о революционном движении. И тоже она старалась это хорошо написать. И всё это было в никуда…
Потом, во время войны, сын её погиб. Потом удар с ней случился. И умерла она преждевременно и глубоко состарившись, как человек, из которого вынули позвоночник. Есть только один замечательный фрагмент 30-х годов, немножко похожий на набоковское описание Зоорландии из «Подвига» — о стране, в которой запрещена речь и запрещена мысль. Это такое поразительное описание страшного сна, в котором вдруг появились, возникли какие-то прежние её тона. Но по большому счёту, конечно, писать она уже не могла.
И мне рассказывала дочь её, что она (Шкапская) умерла во время выставки собак. Она занималась в последние годы собаководством. Её упрекнули, что она то ли кого-то неправильно спарила, то ли кого-то неправильно вывела. И она так была потрясена, что вот тут же прямо и умерла от инфаркта. Действительно, такая страшная, такая собачья жизнь — и такая страшная и непонятная смерть! Это один из множества русских поэтов, которые вот так гибельно, так страшно начали и без развития погибли.
О, тяготы блаженной искушенье,
соблазн неодолимый зваться «мать»
и новой жизни новое биенье
ежевечерне в теле ощущать.
По улице идти, как королева,
гордясь своей двойной судьбой.
И знать, что взыскано твоё слепое чрево
и быть ему владыкой и рабой,
и твёрдо знать, что меч господня гнева
в ночи не встанет над тобой.
И быть как зверь, как дикая волчица,
неутоляемой в своей тоске лесной,
когда придет пора отвоплотиться
и быть опять отдельной и одной.
Как это здорово сделано! Что здесь работает? Какое здесь противоречие? Конечно, главное стилистическое противоречие — это приземлённый, бытовой, грубый физиологизм и библейская высота. Мне многие скажут, что делать из менструальной или родовой крови символ — это дурной вкус. Во-первых, хороший вкус никому не нужен. Поэзия — это не дело хорошего вкуса. Хороший вкус заново изобретается гением, и критерии заново им отстраиваются. Но главное дело в том, что в Библии тоже есть то, что Пушкин называл «библейской похабностью». Это есть и в Шкапской, конечно.
Вспомним «Мумию». О мумиях есть много стихов замечательных, но лучшие два написали женщины — Новелла Матвеева («Не хвастай, мумия, что уцелела ты») и Шкапская. Вот смотрите:
Лежит пустая и простая,
В своём раскрашенном гробу,
И спит над ней немая стая
Стеклянноглазых марабу.
Упали жёсткие, как плети,
Нагие кисти черных рук.
Лишь прикоснитесь — вам ответит
Сухих костей звенящий стук.
Но тело, мертвенному жалу
Отдав живую теплоту,
Хранить ревниво не устало
Застывших линий чистоту.
Улыбка на лице овальном
Тиха, прозрачна и чиста,
Открыла мудро и печально
Тысячелетние уста.
Удивительно, что здесь Шкапская этой мумией умиляется, эта мумия у неё чуть ли не символ добра. А у Матвеевой это такое страшное, такое роковое явление.
Да, говорят, что это нужно было… И был для хищных гарпий страшный корм, и тело медленно теряло силы, и укачал, смиряя, хлороформ. И кровь моя текла, не усыхая — не радостно, не так, как в прошлый раз…
Я думаю, что вот эти самые страшные стихи об аборте Русской революции, об абортированной революции, об абортированной и прерванной истории — это Шкапская. Ну а повторять про себя мы будем всегда, конечно, «Петербурженке и северянке…». «Вода живая с кипящей пеной» — вот лучшая характеристика её стихов.