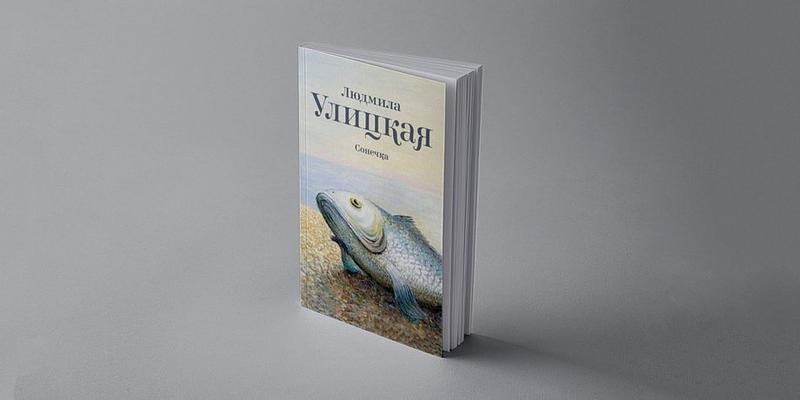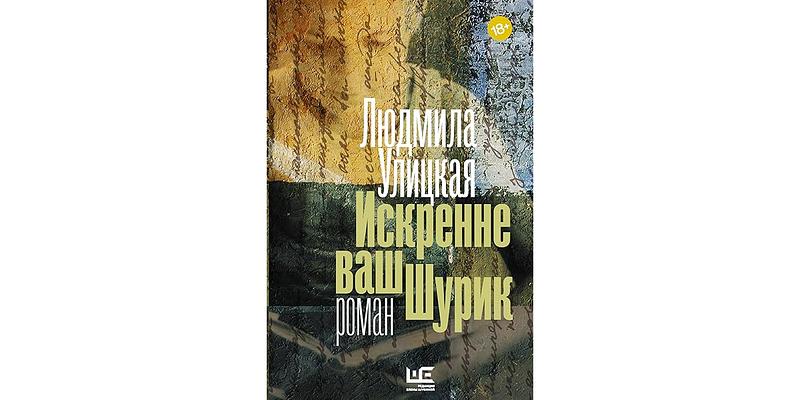Лучшим, что написала Улицкая, явлением действительно выдающимся мне представляются её рассказы из сборника «Девочки». Мария Васильевна Розанова, которая первая со своим абсолютным искусствоведческим вкусом прочла эти рассказы и напечатала в «Синтаксисе» — по-моему, в лучшем тогдашнем литературном журнале. Почему «Девочки»? Потому что там сошлись три главные черты прозы Улицкой, которые придают ей её неповторимое своеобразие.
Во-первых, она ударена, потрясена опытом своего детства. Улицкая — очень точный исследователь патологий массового сознания, патологий сознания, которые внедряются уже на уровне детском, подростковом. Ведь советская школа была страшно тоталитарна, она людей уродовала на корню. И мне кажется, что есть всего три книги, которые рассказывают об этом. Это книга Елены Ильиной «Это моя школа» — довольно страшная детская повесть. Это шенбрунновские «Розы и хризантемы», которые когда-то были в букеровском финале,— замечательная повесть о девочках в советской школе. И это тексты Улицкой, потому что они рассказывают о мире страшно выморочном, вывернутом наизнанку, где зов пола загнан глубоко в подполье (простите за каламбур), где естественное, нормальное объявлено патологией. И те немногие, кто может этому противостоять, как бедная счастливая Колыванова, героиня одноимённого рассказа,— они необязательно умнее. Наоборот, противостоять умеют те, в ком силён инстинкт. Вот это первая черта — такая ударенность советской эпохой и патологиями этой эпохи.
Второе (тоже очень важное) у Улицкой — это физиологизм, острая физиологичность, конечно. Она физиолог по первой специальности, биолог. И вот эти бледные полушария мышиного мозга, о которых она пишет в «Казусе Кукоцкого»,— ей приходилось эти скорлупки видеть и приходилось с этим возиться. Она действительно глубоко и серьёзно убеждена в том, что поведение человека, его мечты, его творческие способности очень глубоко, очень серьёзно физиологически предопределены.
И третья черта, которая, мне кажется, делает её интонацию совершенно особенной. Ведь посмотрите, в отличие от гневного вопрошания Петрушевской, в отличие от тихого и иронического жизнеприятия Токаревой, между этими полюсами Улицкая располагает свой умеренно-оптимистичный, скромный и при этом глубоко религиозный взгляд на человеческую природу. Для неё человек — это действительно арена борьбы между религией и физиологией. Вот это удивительное дело: для неё религия не фрейдистски обусловлена, не физиологически; для неё религия — это абсолютное чудо, это торжество человека над своей смертной плотью, над своими подлыми желаниями, детскими страхами. То, что человек так физиологически зависим и способен это преодолевать — вот в этом для неё и заключается главный парадокс божественности, главный парадокс веры. Собственно, вся Улицкая — она о преодолении вот этого зова плоти, зова страха, зова коллектива, толпы.
Мне кажется, ей достаточно близка христианская мысль о том, что надо быть, как дети или как безумцы. Поэтому лучшая часть «Казуса Кукоцкого», как мне кажется (я знаю, что она сама любит эту часть больше всего, хотя многие ей советовали её убрать),— это та часть, где сумасшедшая жена героя… не сумасшедшая, а деградирующая, блуждает по каким-то пустынным, странным, мифическим пространствам. Вот так Улицкой представляется пространство жизни, как мне кажется: это пустыня, по которой блуждает больной человек. Но этому больному человеку дана способность восхищаться миром, восхищаться его чудесами, его непознанностью. Мне очень нравится, что у физиолога Улицкой мир всё-таки непознаваем. Мне очень нравится, что её герои всё время в этом «сперматическом бульоне жизни», как сказал мне когда-то Искандер, что они всегда так страшно зависимы от собственного пола и возраста, но они способны на метафизический скачок.
Ведь, в сущности, главная тема Улицкой (и тема мне очень близкая) — это преодоление имманентности, преодоление данности. Об этом написан «Даниэль Штайн, переводчик». Я могу довольно много предъявить претензий к этой книге — в том смысле, что всё-таки, мне кажется, избранная для неё форма (форма дневника, переписки, документальной мозаики) в известном смысле капитулянтская. Ну, может быть, просто Улицкая смиренно и гордо сознаёт потолок своих художественных возможностей. Скажем, Хотиненко его не сознаёт, поэтому он снимает фильм «Поп», который не выдерживает уровня взятых там вопросов. Это я просто говорю о примерах смирения и несмирения. Хотиненко — блистательный режиссёр, но смирения в нём нет. А вот Улицкая — человек смиренный.
Она понимает, что для того, чтобы описать такую фигуру, как герой Даниэля Штайна, и описать такие проблемы, скажем, как вопрос еврейского христианства, может быть, её художественных способностей не хватит (а может быть, время не пришло), поэтому она смиренно к документальному коллажу. В результате «Даниэль Штайн, переводчик» получился книгой эмоционально куда более слабой, чем могло бы это быть, но зато при этом он внёс огромный вклад в разговор о Боге в XX веке. Как это может быть? Как вообще можно совместить еврейство и христианство? Каковы узлы, каковы барьеры, которые приходится на этом пути преодолевать? И в какой степени человек зависит от места рождения, а в какой способен быть всечеловеком? Вот это очень глубокий вопрос сегодня, потому что мы наблюдаем сейчас страшный реванш имманентности, почвенности, дикости.
Я не люблю, когда люди упиваются дикостью. Дикость мне не интересна. Я не считаю, что дикость таит в себе какие-то прорывы и ослепительные молнии. Я считаю, что телесный низ есть телесный низ, понимаете, а человек живёт телесным верхом.
И из-за этого её иногда обзывают разного рода пассионарии «буржуазным писателем». Что же в ней буржуазного? Если под буржуазностью понимать воспитанность, то тогда — да. А под почвенностью и под правдой, под природой понимать дикость? Давайте, пожалуйста. Вперёд! Я посмотрю, сколько крови вы прольёте и какая литература у вас из этого получится. Мне кажется, что упрощенчество всегда омерзительно. Вот Улицкая настаивает на том, что человек способен предпочесть сложность, что дикость не есть норма. И в этом смысле «Даниэль Штайн» — конечно, книга о том, как человек приподнимается над своими врождёнными данностями, и эта книга для меня очень серьёзная.
Композиционно Улицкая мыслит интересно, потому что она ищет новые формы повествования. Мне нравится и «Казус Кукоцкого», в котором четыре части соотносятся между собой неочевидным образом, это как бы роман в повестях. Мне нравится «Зелёный шатёр», который не просто мозаика, а такая, я бы сказал, перекладка, знаете, в технике Норштейна, когда кусочки повествования накладываются друг на друга: где-то мы видим повторения, где-то мы видим куски, изложенные из разных точек зрения. «Зелёный шатёр» — тоже, кстати, интересная книжка, она на интересную тему написана. Это книга о бесовщине русского диссидентства, назовём это так. Потому что старая мысль Григория Соломоновича Померанца о том, что «дьявол начинается с пены на устах ангела»… В общем, это и старая мысль Войновича о том, что иные диссиденты были по своему мировоззрению тоталитарнее самых яростных тоталитариев. Это неглупая вещь, очень интересная.
Мне кажется, что «Зелёный шатёр» о том, как сохранить в душе среди всех соблазнов подполья вот этот свет истины. Что для этого нужно? Религиозность (христианская или буддистская), опыт жизни, воображение, способность поставить себя на чужое место, алкоголизм иногда. В любом случае важнее всего — сознавать себя бренной плотью. Вот это у Улицкой очень важно. Почему ей физиология так важна? Потому что человек — это ком глины, это бренная плоть. И не надо идеализировать этот ком; надо понимать, что ты — только эта бренная плоть. А то, что в тебе есть — душа, всё это одушевляющее,— это надо долго расчищать и тщательно охранять. Все имманентные данности — это кровь, почва, глина, навоз. А то, что ты из этого сделал — вот это и есть человек.
В этом смысле, конечно, размышления Улицкой лежат в русле таких иронических размышлений Натальи Трауберг, которые сейчас печатаются, Царствие ей небесное, или размышлений того же Померанца: это религиозность без гордыни, насмешка без глумления. Вот это я люблю. Я не говорю сейчас пока про «Лестницу Якова», потому что «Лестница Якова», как мне представляется… Ну, тут Кучерская очень интересно высказалась: «Это роман о ценности просто жизни». Я эту ценность не вполне разделяю. Хотя, конечно, что там говорить? Я тоже не сверхчеловек. Мне, наверное, надо бы эту книгу повнимательнее почитать. Я пока не очень понял, про что она. Видимо, это какие-то вещи, которые постигаешь с годами. Пока высшим свершением Улицкой мне представляется «Казус» и рассказы. Но эти рассказы о девочках хранят ещё одну очень важную в себе мысль.
В чём эта мысль заключается? Мы очень часто обвиняем себя, а можно обвинить эпоху. И это верно. Потому что больная эпоха порождает больные коллизии (как у Тендрякова), больные чувства (как у того же Лимонова), больные вопросы (как у многих мыслителей Серебряного века). Это больная эпоха. И «Девочки» рассказывают о том, как здоровую детскую судьбу калечат искусственные установления. Это о том, что по природе своей человек здоров, а время уродует его, и поэтому спрашивать с него так строго не надо. Надо понимать, что он вырос под страшным прессингом, где ему ничего нельзя, где он на каждом шагу унижен. Поэтому «Девочки» — это книга высокого и очень трогательного милосердия.