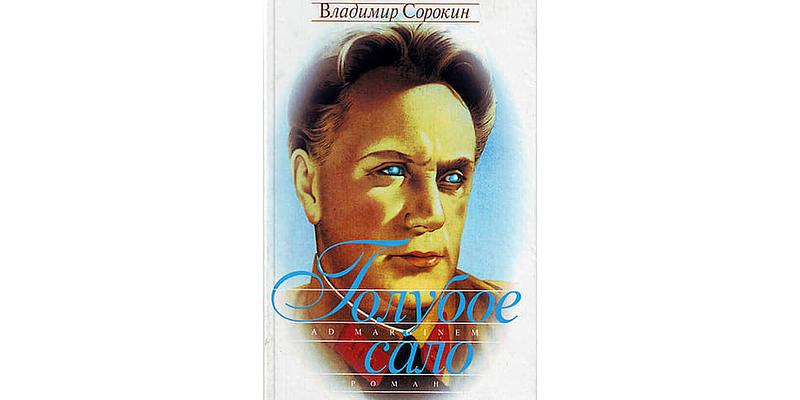Чем меня поражает Катаев? С тем же Акуниным мы говорили о том, что большая часть прозы 30-х годов пафосна, напыщенна, дурновкусна, и всё время чувствуется страшный самоподзавод. И он чувствуется не только у таких авторов, как у Шагиняна в «Гидроцентрале», например, не только у таких писателей, как у Валентина Катаева во «Время, вперёд!» или у Эренбурга в «Дне втором», но и у таких, казалось бы, милых и самоироничных авторов, как Инбер, у таких писателей, как Василий Гроссман в его «Повести о жизни». И даже, чего там говорить, в рассказе Бабеля «Нефть» это просто чувствуется с ужасной силой! Это самый фальшивый рассказ Бабеля. И читать его особенно приятно именно потому, что ну это совсем искусство, доведённое до абсурда, это такое квазиискусство, это фальшь в её самом чистом, эстетически законченном, в чём-то прекрасном виде.
Я рискну сказать, что Иван Иванович Катаев, который прожил всего 35 лет — перевалец, человек происхождения самого что ни на есть интеллигентского — он удивительным образом, наверное, стал единственным русским писателем 30-х годов, который писал о живом человеке и о живых человеческих проблемах. И не зря «Сердце» — его самая известная повесть, потому что именно сердцем он и занимался. Но я считаю, что лучшая его вещь — это «Ленинградское шоссе». Сейчас о ней поговорим.
Мне очень трудно сформулировать главную катаевскую тему, но если говорить о главной теме 30-х годов… Главной причиной шока 20-х оказался странный перекос в появлении совершенно новых героев, но эти герои не были пролетариями, и не были борцами за советскую власть, и не были борцами против советской власти. Главная фигура 20-х годов — это плут, трикстер. И вот то, что Бендер, Беня Крик, герои катаевских «Растратчиков» (Валентина Катаева) или герои уголовного мира, скажем, каверинского «Конца Хазы», то, что они занимают лидирующие позиции — это как раз и был главный кризис 20-х годов. А в 30-е жизнь резко переменилась. В 30-е главным героем стал инженер — тот, о котором Луговской писал:
Он встанет над стройкой как техник и жмот,
Трясясь над кривыми продукции.
Он мёртвыми пальцами дело зажмёт,
Он сдохнет — другие найдутся.
Это «Большевики пустыни и весны» того же Луговского. Это преобразователь, это инженер из платоновского «Котлована», Прушевский. Это новые персонажи, которым поручено «техницировать» республику. Это красные директора. Это выпускники первых советских вузов, которые разъезжаются и начинают строить новую жизнь. Это, кстати говоря, герои нового Каверина, скажем, герои его первой, по-настоящему взрослой вещи «Исполнение желаний», такие как Трубачевский и особенно друзья Трубачевского и однокурсники его, простоватые ребята, но тем не менее именно они — главные герои эпохи. А интеллигент в это время обречён. Это герои, которые первыми появились в «Зависти» Олеши, конечно. Это строгий юноша, воспитанник Бабичева, Володя вот этот.
Мне кажется, что появление этих героев было для Ивана Катаева главным шоком 30-х и главной попыткой осмыслить это, потому что — вот ведь в чём ужас!— все очень резко поделились тогда (и в «Зависти» как раз Олеша это первым почувствовал) на тех, кому будет место в новом мире, и тех, кому не будет. И эти критерии Катаева очень занимают: по каким критериям человек оказывается в новом мире, а по каким он выпадает из него?
Я вам должен заметить, что на фоне глубокой психологической прозы Катаева — удивительно тонкой, удивительно богато детализированной — вдруг начинаешь понимать, что проза, например, Платонова всё-таки несколько плакатна, а временами она, страшно сказать, даже ходульна, потому что он сказки пишет, мифы, а Катаев работает с реальностью. Я не хочу сказать, что одно — хорошо, а другое — плохо. Но платоновская проза о 30-х годах отражает гений Платонова, а вот катаевская проза отражает то, что происходило реально в 30-е годы. Мы можем увидеть, приблизить к глазам людей 30-х годов.
Кстати, особенно интересно сравнить «Ленинградское шоссе» с «Третьим сыном» Платонова. Сюжет тот же самый: умирает старый представитель рода (отец в случае «Ленинградского шоссе»), ремесленник, и тоже такой немного платоновский ремесленник. Ну, Катаев, конечно, Платонова не читал, а если и читал, то только раннего. Он просто физически не успел поздние его вещи прочесть, он погиб в 1937 году. И уж конечно он не читал «Счастливую Москву» и, скорее всего, не читал ненапечатанный «Котлован».
Так вот, герой «Ленинградского шоссе» — старый ремесленник, умерший — он тоже всю жизнь тосковал по всякому рукомеслу. Он всё время что-то чинил, подлатывал. И жизнь его состояла из мелкого подлатывания мелких вещей. В слове «подлатывание» слышится какая-то подловатость, но не его, а судьбы, конечно. Но вот он поднял замечательных сыновей и дочек. И вот они стали новыми людьми. И вот, когда отец помер, и помер во сне… Помер, в сущности, от стресса, потому что снимающий у него комнату куплетист на него наорал и пригрозил вообще его из дома выселить; наглый такой тип, омерзительный — Адольф Могучий.
И когда помер старик во сне, хоронить его съехались дети. И вот удивительное дело. Старший сын не вписался ни в какую жизнь, он после Гражданской войны оказался, в общем, на обочине, Алексей такой. А все остальные — дочки с преуспевающими мужьями, какие-то химики, какие-то инженеры — они потому оказались в этой жизни на месте, что они странным образом мимикрируют, что они удивительно пластичные, что они обладают повышенной адаптивностью.
И вот когда начинается скорбь по отцу, видно, что в первые же минуты застолья (а они привезли всё из своих распределителей, крабов привезли) они про отца забывают. В общем, когда они его похоронили, они почувствовали большое облегчение. А с ними же ещё за столом сидит беспризорник, который живёт при местной церкви, прирабатывает, могилы роет. И когда его приглашают к столу, он немедленно съедает всё, что там есть. И очень любопытно, что у него такие красные вампирские губы. При этом, как только за столом начинается скандал, он с удивительной радостью начинает кричать: «Кр-рой, дядя!» — потому что он вот этой крови жаждет.
А скандал начинается именно потому, что за столом оказывается один из бывших свойственников умершего ремесленника, кум его, который работает теперь в Москве извозчиком после того, как его раскулачили. И вот он начинает вспоминать о том, что когда он был кулаком… Он говорит: «Вы кулаков-то настоящих не видели. Ну, какие мы были кулаки?» И он начинает оправдываться. На него начинают наезжать молодые, записывают номер его пролётки, хотят вызвать милицию. Начинаются классовые разборки за столом.
И вот мы видим, что на самом-то деле вписались в эту жизнь те, кто сумел отказаться от морали, от привязанностей, от дружественных, от родственных связей, от семьи — те, кто сумел отбросить прошлое. А там же сказано, что за эти десять лет — с 1920-го по 1930-й — чего только не было, столетия в это вместились! И вот человек, который умеет вписываться, человек, который умеет отбрасывать прошлое — он и есть востребованный сегодня. Это то, о чём Петров писал: «У нас не было мировоззрения. Мировоззрение нам заменила ирония». Вот они сидят за столом, они толкуют о химии, о комбинатах, о том, как трудоустроится, а смерть не входит в их лексикон; у них просто отсутствуют нравственные чувства, чтобы понять, что происходит на самом деле.
Конечно, Катаев не был бы крупным писателем, если бы он изобразил только эту классовую тёрку за столом, это классовое выяснение отношений. Эта повесть заканчивается очень неожиданным фрагментом, но я рискну сказать, что из этого фрагмента вырос весь Трифонов. Помните, чем заканчивается «Долгое прощание»? Вот этой картиной Москвы, которая прёт куда-то и захватывает новые и новые территории, вот этой замечательной фразой: «То ли старики разъехались [приезжие понаехали], то ли дети повырастали?». Она кольцуется там. Она начинается замечательной фразой: «Когда-то здесь было очень много сирени. А теперь здесь магазин «Мясо». И вот этой картиной стремительно прущей Москвы, когда автор словно отводит свой взгляд от героев и камера панорамирует сверху над городом, заканчивается у Трифонова главная его вещь. Кстати, такой же картиной города, меркнущего в ожидании вечера, заканчивается и «Другая жизнь».
Тут как раз удивительное обобщение. Тут у Катаева эти разные голоса слагаются в единую жестокую симфонию Москвы. Вот похоронили этого мастерового. А вот рядом, он показывает — ну, в пяти вёрстах!— на только что построенном стадионе «Динамо» принимают турецкую команду и турецкого посла, и гордятся и радуются тем, что они в своей новой стране принимают высоких дипломатических гостей. Вот рядом Пушкинская площадь. Вот рядом комбинат «Известий». И всё это вместе складывается в мощный, страшный, грозовой хор! И самое удивительное, что Катаев говорит в финале: всего-то десять километров от комбината «Известий» до свежего холмика земли, насыпанной над этим мастеровым.
Я не сказал бы, что тут (любимое моё слово) амбивалентность. Тут нечто иное. Тут то, что… Сейчас я рискну сказать наконец! Любимая фраза Трифонова о том, что «история — многожильный провод». Тут он говорит вот о чём: что история не имеет нравственного вектора, что требовать от истории сентиментальности, добра, нравственного смысла нельзя. История имеет смысл другой. История заключается в том, что она отсекает прошлое, что она убивает его. И человек, который готов к этому, он в неё впишется, через него она не переедет. А тот, который не готов, он всегда будет на обочине Ленинградского шоссе. Ленинградское шоссе — это страшное движение истории.
Ну, впоследствии у Стругацких появится этот образ дороги, движения машин, образ вечности (»…пока не исчезнут машины»). Вот Ленинградское шоссе, по которому свистит будущее, сметая на обочину всех неготовых,— это страшный образ, если угодно. Это образ советской истории — прекрасной, сверкающей. Но жизнь осталась на обочинах. Вот это удивительная мысль. И, кстати говоря, у Ильфа и Петрова она появится впоследствии, помните, когда проносится автопробег мимо жуликов («Настоящая жизнь просвистела мимо, блистая лаком и шурша шинами»). А на обочине остались Бендер, Паниковский, Балаганов с Козлевичем — единственные живые люди в этом пространстве. А те, кто летит в этом автопробеге,— они хорошие, может быть, но они плоские. И вот с этим ничего не поделаешь.
Что касается «Сердца». Я не буду подробно эту вещь разбирать, она более ранняя, она слабее написана. Во-первых, обратите внимание на письмо, на фактуру письма: сколько деталей, точностей, какие великолепные диалоги. Это тоже повесть о НЭПе, о том, как в нэповскую эпоху не вписываются прежние люди, потому что надо учиться торговать — а они этого не хотят, надо учиться администрировать — а они этого не хотят. В общем, эта вещь (это 1927 год) ещё в ряду литературы 20-х годов — о том, как не вписываются в реальность разочарованные бойцы революции, о том, как вернулось всё прежне, но это прежнее хуже, грубее. Вот как у Маяковского о НЭПе было сказано: «Раздувают из мухи слона и продают слоновую кость». Это абсолютно точная формула.
Но обратите внимание главным образом на то, что это фактура письма, которой вы не найдёте больше нигде в это время: тончайшее плетение множества нитей, деталей, голосов, полифония повествования! Ни у Пантелеймона Романова с его довольно плоской прозой, ни у Артёма Весёлого в этого время, ни у Малышкина в «Людях из захолустья» вы не найдёте такого удивительно точного письма. И вот поэтому-то и нельзя простить советской власти, что она уничтожала писателей такого класса. Многое можно простить, а вот это — чудовищная закавыка. Я уже не говорю о том, сколько она положила прекрасных людей. Но, когда мы думаем о Катаеве, мы с ужасом думаем о том, какой литературы мы лишились! Мы лишились сложности. И этот отказ от сложности на протяжении всей советской истории был главной доминантой.