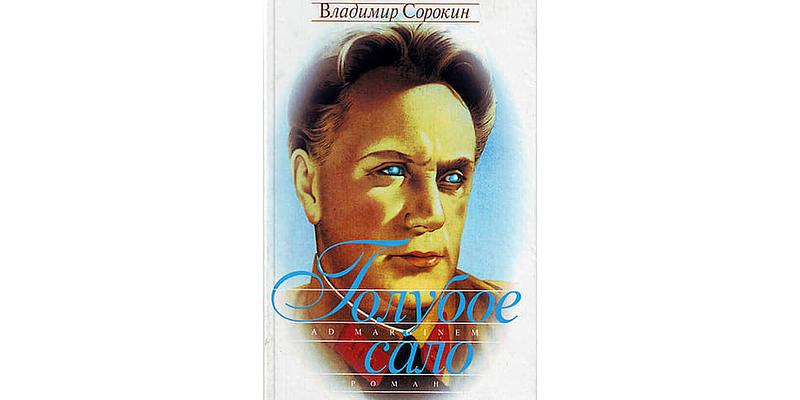Александр Израилевич Шаров — мой любимый писатель. Ровно за день до смерти, Шаров поехал к машинистке и забрал у нее перепечатанную рукопись своей последней книги, романа «Происшествие на новом кладбище, или смерть и воскрешение Бутова».
Роман этот тридцать лет лежал в столе, потом сын Александра Шарова, известный писатель и историк, друг мой, Владимир Шаров, сумел после долгих попыток напечатать эту рукопись и представил ее на Московской ярмарке non/fictio№, где она была благополучно распродана за два дня. И вы ее сегодня вряд ли найдете, а если где-то найдете, то, наверное, в каком-нибудь из Букинистов или в интернет-распродажах, в интернете текста нет. И объяснить вот этот запоздалый феномен популярности Шарова очень трудно.
У него вообще странная была судьба. Александр Израилевич Шаров, он же Шера Израилевич Нюренберг, начинал как журналист, и, кстати говоря, до последних дней оставался журналистом, печатал чудесные очерки в «Новом мире» Твардовского. И, кстати говоря, первый фундаментальный очерк о Корчаке, великом польском педагоге, написан был Шаровым, после этого Корчак стал одной из главных фигур советского пантеона, не только педагогического, но и военного.
Шаров освещал полярные экспедиции, писал очерки об ученых, о биологах, о минералогах, много о ком. Но начиная с пятидесятых, побыв военным журналистом, он начинает постепенно публиковать рассказы и повести.
Я вообще очень высоко ставлю Шарова как прозаика, хотя прославился он как сказочник, сказочник-фантаст. Я думаю, лучший советские сказки писал он. Но просто, чтобы, знаете, немножко представлять контекст, из которого он вырос. Шарова знают сейчас хорошо, его знают гораздо лучше, чем в последние годы жизни, и уж, конечно, лучше, чем в эпоху вынужденного постсоветского забвения, когда его не переиздавали. Сейчас он модный сказочник, его книги невозможно купить. Но корни, начало его работы помнит мало кто.
Значит, первый его рассказ, который привлек внимание, и который, я помню, совершенно поразил меня, был «Легостаев принимает командование». Там довольно занятная история, во всяком случае, для советского пятьдесят четвертого года очень занятная. Там бухгалтер, начальник финчасти дивизии, которая после победы расформировывается, узнает, да он и так знает, что живет мальчик, сын одного из командиров полков, убитых незадолго до конца войны, этому мальчику отсылают денежное довольствие.
Ну, а теперь дивизия расформирована, и он останется единственным, кто будет этому мальчику что-то отсылать. И он ему отсылает деньги, а при этом пишет ему письма. А поскольку мальчик не знает, что дивизия расформирована, он в этих письмах ему пишет все новости, и он боится ему признаться, что дивизии больше нет. Он пишет, что такой-то солдат поощрен на стрельбах, а такой-то нерадивый солдат, наоборот, получил взыскание и теперь исправляется. Пишет какие-то новости, репортажи целые с учений, и дивизия продолжает существовать только в его письмах к этому ребенку.
И вот так проходит год, и потом он неожиданно получает письмо от этого мальчика, что он сбежал из дома и едет к нему, в эту дивизию, потому что там его единственный настоящий дом, и он хочет туда. И заканчивается этот рассказ стоянием Легостаева на платформе, когда он ждет прибывающего поезда, и поезд вот уже подходит, и он не знает, как этому мальчику скажет, что дивизии больше нет, сможет ли ему вот этот ребенок простить крушение своего мира.
Это написано, кстати, было довольно сильно, особенно сильно, смешно, грустно, трогательно были описаны эти писательские потуги Легостаева создать образ расформированной дивизии. Вот этот человек, творящий заново упраздненный мир, это очень по-шаровски.
Надо сказать, кстати, что шаровские ранние сказки, такие, как замечательный памфлет «Остров Пирроу», напечатанный Аркадием Стругацким в сборнике фантастики, они сразу поражали мастерством, зрелостью, готовностью. Это и понятно, он же начал печатать свои фантастические вещи, когда ему было уже здорово за пятьдесят, когда он уже напечатал роман о биологах «Я с этой улицы», когда он написал, напечатал несколько замечательных, сказочных и не сказочных, повестей, в том числе вполне серьезную, реалистическую повесть «Хмелев и Лида», одну из самых сильных повестей шестидесятых годов. Там, представляете, тоже какая история, как человек сумел в 1964 году в сборнике «Дети и взрослые» об этом рассказать.
Там майор Хмелев, у которого перебит позвоночник, в госпитале, он одинокий, его некому забрать, и санитарка Лида, такая книжная немного, такая идейная, желая совершить подвиг, забирает его к себе. А она его не любит же, и она начинает медленно его ненавидеть. И он ее не любит, потому что она сухая такая, абстрактная немножко, и он чувствует эту нелюбовь. И единственное его утешение это мальчик Алеша, которому он вырезает мельницы деревянные.
И вот этот страшный мир насильственного подвига, история о том, что нельзя никого насильственно облагодетельствовать, как она проскользнула в советскую печать, я совершенно не помню, но для меня, я помню, повесть «Хмелев и Лида» была в свое время большим откровением.
Но любил я больше всего шаровские сказки. Конечно, его совершенно волшебную сказку «Приключения Еженьки и других нарисованных человечков», которую вы все помните, когда там идет художник по лесу зимой, и вдруг слышит такой жалобный лепет: «Простите, пожалуйста, я замерзаю». Берет ежика, ежа-ежище-черный носище, отогревает этого ежа, а еж превращается в набор волшебных карандашей, и все, что ни нарисуешь этими карандашами, то оживает.
Невероятная сказка Шарова, которую до сих пор я не могу без слез читать. Помню, я своему ребенку ее читал вслух, младшему, и слезами давился, это, конечно, «Мальчик Одуванчик и три ключика», причем Андрей, слава богу, тоже оказался мальчиком восприимчивым, и потребовал больше ему никогда, ни при каких обстоятельствах эту сказку не читать, потому что она, правда, ужасная.
Тут надо, понимаете, что объяснить, Шаров был другом ближайшим Галича, Гроссмана и Платонова. Более того, он был собутыльником Платонова, а выдержать это мог не всякий. Да, Шаров попивал, как многие тогдашние интеллигенты. И вот обратите внимание, что самые невыносимые, самые слезные сказки, может быть, в советской, может, в русской, а может, и в мировой литературе, это сказки Платонова и Шарова.
Они самые сентиментальные и самые жестокие, потому что они понимали, как Андерсен, что детская сказка должна быть жестокой, понимаете, она иначе ребенка не прошибет. У ребенка есть такой своего рода желточный мешок, как у малька, такой запас витальности и оптимизма. И чтобы ребенка прошибить, надо бить его очень сильно, и вот такие сказки Платонова, как «Разноцветная бабочка», «Восьмушка», «Цветок на земле», вот я не понимаю, как можно «Разноцветную бабочку» читать и не заплакать, это невероятная сила.
И вот у Шарова, вот этот мальчик Одуванчик, его зовут Одуванчиком из-за его большой пушистой светлой головы, у него бабушка, старая черепаха. Мы, кстати говоря, почему-то совершенно не удивляемся тому, что у мальчика нет родителей, а есть бабушка, старая черепаха. Бабушка действительно похожа на черепаху, в сказке бывают такие осуществления метафор.
И вот эта черепаха ведет его на поляну, раз в жизни, когда мальчику исполняется семь лет, его надо привести на поляну, и там ему на этой поляне жуки, жуки-кузнецы, выковывают три ключика — изумрудный, рубиновый и бриллиантовый. И он с этими тремя ключиками идет в путешествие. Плохо все кончается. Плохо потому, что он не те вещи стал этими ключиками отпирать!
Вот он идет там, и видит девочку, у девочки на шее красный замочек, и она ему улыбается. Но рядом стоит рубиновый сундук с драгоценностями, и он вместо того, чтобы отпирать замочек девочки, он отпер сундук, и девочка исчезла. А в сундуке оказались красные жуки. Метафора очень простая, и все дальше очень просто.
Там гениальная же сцена, когда в финале мальчик видит колючую проволоку, концлагерь видит, колючую проволоку, и бледные люди в серых, похожих на пижамы, ужасных робах, машут ему, кричат «Спаси нас!», но рядом стоит сундук с бриллиантами, и мальчик отпирает сундук с бриллиантами, а невидимые люди исчезают, и их крики затихают. Это вообще довольно храбрая по тем временам сказка. А финал невероятный, когда самому повествователю надо вести сына ночью на эту поляну, и он слышит звон этих молоточков и наковален, и жуки куют вот эти ключи, он слышит их песню. И вот эта последняя фраза «Каким-то ты вернешься домой, мой мальчик», без всякой уверенности.
Жуткое дело, я когда Андрюхе это читал, я помню, как его она не то что растревожила, а испугала, понимаете. И Шаров умел напугать, у него были замечательные сказки «Звездный пастух и Ниночка», «Человек-горошина и Простак», сказки, которые ребенку не сулят легкой жизни, которые не сулят ему счастливых концов. Но действовало это поразительно. Он такой, действительно, Шаров сентиментальный, в лучших традициях хорошей советской литературы, но жестокий. И это всегда действовало очень выпрямляюще.
Что касается последнего романа, понимаете, когда я его читал, я все время не мог понять, как книга такой мощи тридцать лет лежала в столе. Мы все бегали, говорили, где литература, нет литературы. А эта книга лежала, и никто не хотел ее печатать. И понадобилось Владимиру Шарову стать знаменитым писателем, понадобилось России выбраться кое-как из девяностых, чтобы вот это удивительное произведение нашло своего издателя.
Чтобы оценить и понять литературу советскую передперестроечную, надо читать, конечно, именно «Происшествие на Новом кладбище». Что там происходит? Там советская загробная жизнь, загробная жизнь советского человека. Советский человек, Бутов, он не заметил, что умер. Он поехал за телевизором, потому что ему надо было купить дефицитный телевизор, и он поехал, и его купил, привез его домой, а дома никто не рад, никто не реагирует.
И мы уже начинаем по крошечным сдвигам понимать, что это не реальность, что уже он попал в другой мир. И он тогда бросил все, разругался с семьей, сел на какой-то автобус, и этот автобус вывозит его из города. И за городом он вышел на последней остановке, присел на какой-то холм, и тут мы понимаем, что это его могильный холм.
Таким образом, кстати говоря, сдвиг происходил очень во многих текстах, фильмах тогдашних, человек сел на трамвай и выехал в другую жизнь. Такое происходило у Катерли в «Зелье», такое было, скажем, у Данелии в «Слезы капали», это вот выход, неожиданный выход в другой мир через самую будничную дырку, через самую обычную дверь.
И вот начинается загробное бытие Бутова, он начинает вспоминать свою жизнь. Вспоминает он то, о чем тогда и думать и писать было не принято: как спасаясь от репрессий, а у него на работе арестовали всех, и он неизбежно следующий, он начинает странствовать по России, нанимается то вальщиком леса, то бетонщиком, путешествует среди чужих, незнакомых людей, такое долгое странствие. И в этом странствии, в этом самоспасении Бутов постепенно утрачивает себя, и, вспоминая свою жизнь, он с трудом находит эпизоды, в которых он был человеком, в которых он действовал самоотверженно, в которых он помнил о других.
Вот в основном все действия Бутова — это мытарства, это почти посмертные шатания по чужой стране. Чужой, потому что чужие люди кругом, и никто не желает его понять, и он не желает понять никого. Он вспоминает, что вся его жизнь была претерпеванием, приспособлением к обстоятельствам, во время которого он безвозвратно утрачивал себя. И только потом, после года примерно вот этих мытарств и воспоминаний, он умудряется вспомнить, что было в его жизни несколько эпизодов бескорыстной помощи, бескорыстной любви, и ему открывается пусть бесконечно долгая, пусть нелегкая, но все-таки дорога в какой-то свет, в какой-то выход.
Сама эта вещь по ее страшному физическому ощущению бесприютности, жизни без опоры, без идеала, без надежды, жизни приспособления, жизни выживания, она не имеет, конечно, себе равных. Она вся выдержана вот в этом колорите сырой глины, по которой герою приходится мытариться. Вот это описание мытарств, оно, пожалуй, единственный раз встречается с такой силой в прозе Пелевина, в его «Девятом сне Веры Павловны» или в «Вестях из Непала». «Вести из Непала», пожалуй, в наибольшей степени, где описаны эти воздушные мытарства души. Это ощущение страшно бесприютной, бесчеловечной жизни.
Но сила Шарова в том, что он нашел синтетический жанр, он сумел написать не совсем сказку и не совсем реалистическую прозу. Он нашел вот именно этот синтез, вот очень свойственную тогдашнему Советскому Союзу полусказку, ощущение такое, как бы уже инобытия. Я вам должен сказать, что это ощущение тогда было, в 1984 году, уже небытием или инобытием сквозило отовсюду. Вот на грани 1985 года все жили в такой реальности, как бы посмертной. И у Шарова это очень чувствовалось. Реальность, которая истончилась, сквозь которую повевают потусторонние ветерки. Ты поедешь за телевизором, а попадешь на тот свет и этого не заметишь.
И когда я это читаю, я понимаю, что и проза-то русская стояла тогда на пороге огромного качественного скачка. Социальная литература тогда не существовала, а начиналась сильная фантастика, начиналась сильная альтернативная история, у людей появлялись какие-то новые небывалые жанры и догадки.
И вот Шаров умер на пороге свободы, умер, до нее не дожив. Потом долгое время его не перепечатывали, сейчас его проза возвращается активно к читателю. Возвращаются, например, замечательные «Старые рукописи», переизданные совсем недавно. Как они тогда пробились в печать, это представить невозможно. Но вот эта проза его, фантастическая, она выходила в таких, знаете, мягкообложечных разноцветных сборничках фантастики, куда иногда попадали замечательные тексты. И знатоки их знали и любили.
Вот эти «Старые рукописи» — безумно актуальная сегодня вещь. Там герой, ученый, изобрел способ подслушивать мысли животных, и решил начать с того, чтобы подслушать мысли щуки. И вот эта щука, совсем молодая, она еще недавний малек. Он подслушивает ее мысли, а ее мысль одна — я хочу съесть карася, я хочу съесть карася… Ему это довольно быстро надоедает, он думает, ладно, подслушаю я мысли старой щуки, может быть, она умная, может, она помудрела, может, она подобрела с годами. И он включает, и слышит повторяемое с дикой скоростью — я хочу съесть карася, я хочу съесть карася. Щука не думает ничего другого, на эту тему у Шарова не было никаких иллюзий. Именно поэтому его так полезно читать и перечитывать сегодня.
А что касается неизбежного интереса детей к Шарову, потому что он любимый, хотя и печальный, друг детей, я всем рекомендую его волшебную, замечательную книгу «Волшебники приходят к людям», книгу о сказке и сказочниках. Я думаю, что ничего глубже, добрее и печальнее о сказке, да и о жизни, в восьмидесятые годы написано не было. И книжка эта с волшебными иллюстрациями Ники Гольц, была для нас еще одной энциклопедией, еще одним обещанием другой реальности. А собственно, только этим и должна заниматься литература.