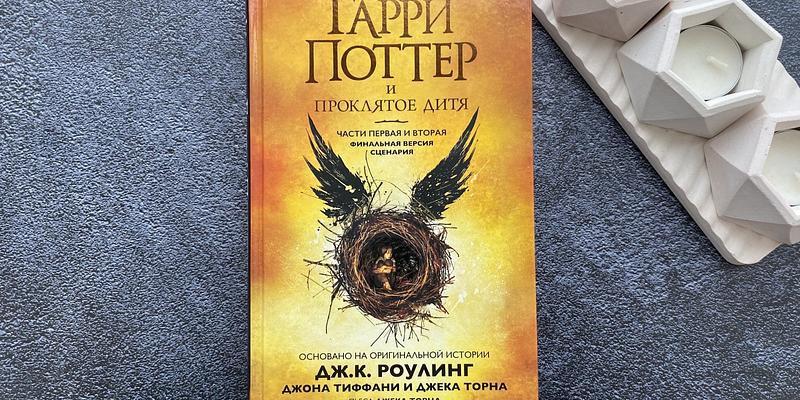Одно другому совершенно не мешает. Драматургия Пристли — сказал бы я, это ни то, ни другое, а это гениальный формальный эксперимент. По крайней мере, два формальных эксперимента у него. Я ставлю очень высоко «Время и семья Конве́й» (или Ко́нвей) — история, в которой второе действие, помещённое между первым и третьим, взято из будущего. Вот в первом мы видим завязку истории, во втором — уже её развязку, а в третьем — людей, которые ещё не знают, чем всё это закончится, и продолжают жить по накатанной схеме. Это на самом деле феноменальный, очень точный и очень новый способ рассказывания истории. И когда я это прочёл, помню, я просто от зависти задохнулся! И, конечно, «Инспектор Гулл» или «Он пришёл» — замечательная пьеса, единственная мне известная пьеса-детектив, в которой виновником оказывается зритель в финальном монологе.
Литература
Драматургия Джона Пристли — это социальная сатира или рентген страстей человеческих?

Дмитрий Быков
>500
😍
—
😆
—
🤨
—
😢
—
😳
—
😡
—
Пока нет комментариев