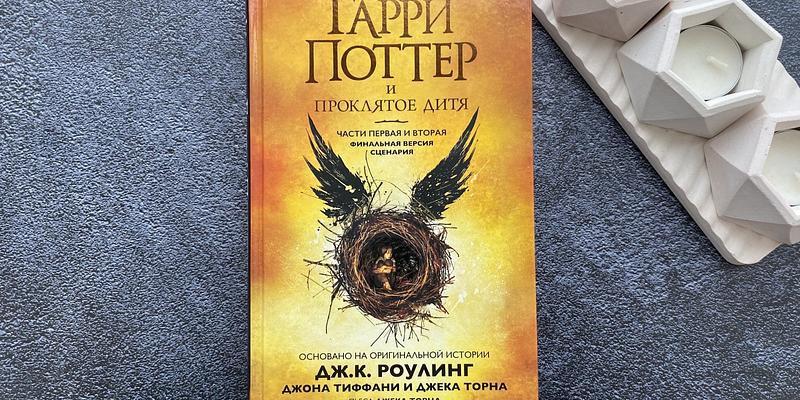Я не стал смотреть — я вам уже это говорил,— а высказываться по принципу «я не видел, но скажу». Я читал, но скажу, то есть уже тысячу раз говорил все, что я думаю об этом романе. Но, разумеется, критиковать эту книгу сейчас, когда столько народу на нее обрушивается и с позиции сталинизма, и с позиции национализма, и с позиции антиисторизма. Я не могу сейчас ее критиковать, сейчас она под ударом, но одно могу сказать с полной уверенностью: все-таки очень плохо, что ни одна проблема настоящего не обсуждается с такой яростью, как проблемы прошлого. У нас по фактам нет консенсуса, по элементарным вещам, у нас палачи ходят в героях и святых, о чем здесь говорить? Конечно, это показатель глубочайшей болезни, глубочайшего общественного неблагополучия. И то, что слабый фильм это выявил…
Понимаете, одну серию я посмотрел, и по этой одной серии могу сказать с большой уверенностью: братцы, картина вызывает такие околонаучные и квазиисторические споры только потому, что она не убедила никого художественно. Вот если бы она художественно убеждала, не о чем было бы говорить. Представьте, что сегодня — это, конечно, невозможно представить, но тем не менее — кто-то выпустил «Место встречи изменить нельзя». Ну неужели после этого пойдут споры о послевоенной Москве, о Сталине, об историзме, о том, прав Жеглов или не прав. Тогда это был художественный факт, который всех заворожил. Конечно, спорили о правоте или неправоте Жеглова; о том, насколько Конкин похож на боевого офицера, и так далее; надо ли было стрелять в Левченко, и прочее. Но эти споры не имели характера нападения на картину.
«Москва слезам не верит» — тоже фильм со множеством допущений, но никогда таких споров не было, и не только потому, что не было интернета, а потому что никто не таскал мешками обвинительных или негодующих писем. Общество было в другом состоянии. Когда есть художественный результат, он убеждает вне зависимости оттого, насколько это исторически достоверно. Вот я сейчас много Клаузевица читал в связи с изучением все того же Бородинского эпизода у Толстого; вообще много читал про Бородино. У Толстого очень вольный подход к фактам: и к демаршу Бенигсена, и к судьбе Кутузова и его поведению; соответственно, насчет партизанской войны Толстой придерживался личной концепции. Антииисторизм «Войны и мира» разобран в десятках работ — начнем с того, что Анна Павловна Шерер не могла в это время принимать у себя людей. Об этом тысячи работ написано, и все равно мы верим тому, что было у Толстого. Потому что художественно убедительная проза создает историческую правду, а не наоборот. Так устроен человек.
Если бы фильм «Зулейха открывает глаза» был художественно убедителен по-настоящему, меньше бы, по крайней мере, спорили об его исторической составляющей. Но тут еще и делать нечего людям, и карантин… Будем откровенны: вы думаете, я так уж легко переношу карантин? Это очень раздражает, раздражает даже не то, что сидишь дома. Я и так, может быть, дома сидел, у меня особо никаких привычек светских, но невозможность куда-то пойти, где-то с кем-то посидеть, кофе попить с друзьями, увидеть людей живых, узнать как они. Потом, конечно, полная неопределенность,— все это очень нервирует. Мы не знаем, будут ли открыты границы России когда-нибудь вообще. Да тут еще Трамп приостановил въезд даже по рабочим визам. Мир действительно живет на изоляции, нервничают люди сильно, да еще от этого дикого совершенно страха… Все постоянно нам рассказывают, как мучительна смерть от коронавируса: «Еще вчера он писал посты, а сегодня легкие его превратились в стекло». С художественным тактом очень худо сейчас, к тому же на всякий фейсбучный роток не накинешь платок. Это все, конечно, нервирует. Но это не повод срываться с цепи и кидаться, как бешеные, на любое произведение искусства, которое имело несчастье вам не понравиться.
Я немножко еще читаю — иногда, мне же надо как-то реагировать на происходящее — сетевые полемики… в каком тоне они сейчас идут! Как все сулят друг другу расстрела! Это нечто вопиющее, конечно. Карантин способствовал нам много к сосредоточенности, но к украшению нравов ничуть.