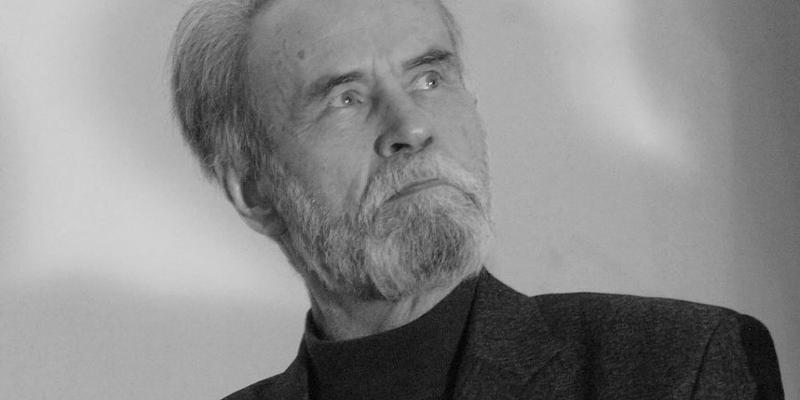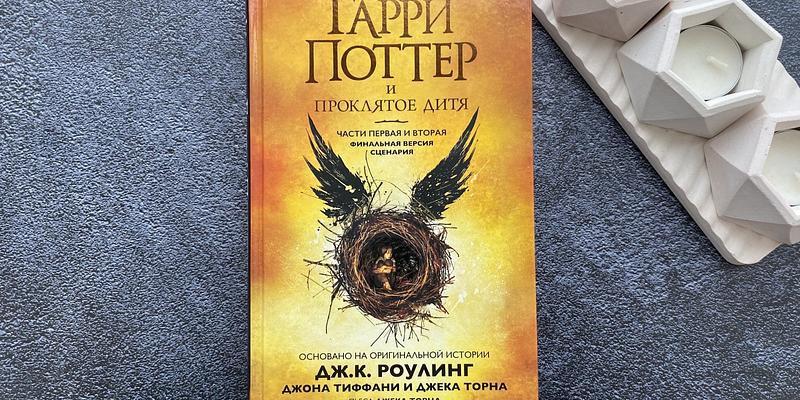Маканин был одним из главных писателей семидесятых и восьмидесятых годов; и в девяностые сохранял свой уровень, хотя с читателем своим несколько разошелся — скажем, абсурд Маканина стал трагичнее и радикальнее, чем сознание его читателя. В каком-то смысле он предсказал, может быть, нынешние проблемы читателя современного.
Я намеренно не хочу касаться «Асана» — романа, который оказался в его биографии самым скандальным, потому что он вызвал очень острую полемику. Люди, участвовавшие реально в Чеченской войне, не могли Маканину простить, что он, никогда там не бывая, влез об этом писать, и там у него масса фактических неточностей. Я бы, безусловно, занял здесь сторону Маканина, потому что Маканин вообще никогда не был реалистом, Маканин писал притчи. И требовать концептуальной достоверности от книги о войне, написанной символистом, наверное, не очень достоверно, даже если ты сам на этой войне был.
Понимаете, ведь Пастернака больше всего не любили в пятидесятые годы именно представители реализма, которые эту войну прошли. Не все же, как уже упомянутый Горелик, считали его главным военным поэтом — его, а не Симонова. Очень многие относились к нему как к дачнику, который войну пересидел в эвакуации. А то, что он не хотел уезжать в эвакуацию, тоже шили ему сотрудничество с фашизмом. То есть у Пастернака бессмысленно искать достоверности. Ну, говорили: «А мы были на войне, мы видели». И Слуцкий, например, критиковал Пастернака вот с этих позиций.
И маканинского «Асана» критиковали с позиций: «Вот мы там были, мы видели. А ты не был и не видел — и пишешь». Ну, вопрос: а что же тогда вы не пишете? Потому что Маканин-то нашел как раз некую высоту взгляда, чтобы определить этого своего бога войны. Я думаю, кстати, во многом гибридная война, как она там описана, новый тип войны предсказан «Асаном».
И я бы был в этой полемике всецело на маканинской стороне, но мне одно мешало: меня «Асан» как раз художественно не убедил, это мне казалось не самым сильным маканинским произведением. Вот «Испуг» мне очень понравился (из поздней его прозы), а «Асан» — это, по-моему, тот случай, когда он чего-то недовоплотил, и по понятной причине: он о каких-то вещах боялся высказаться с абсолютной прямотой вслух.
Ну, у нас вообще, когда говоришь о войне, всегда велик шанс напороться на духовную скрепу. И не всю правду хотят слышать, и не всякие концепции приемлемы, поэтому приходится говорить вокруг войны, а не о войне. Ну, думаю, что придет время и осмысление все-таки русского понимания войны и русского отношения к войне как к средству решения проблем. Оно, впрочем, всемирно. Думаю, что здесь Маканин сказал меньше, чем мог бы. И сам по себе «Асан» — это книга, в которой многое недоговорено, в том числе, кстати, и о чеченцах. Но тут тоже слово скажешь — вступишь в неполиткорректность.
Поэтому расскажу о Маканине городском, бытовом, о Маканине, начиная с «Прямой линии», ещё вполне традиционного реалистического романа, и продолжая «Ключаревским циклом», прежде всего «Ключаревым и Алимушкиным» и «Лазом», и такими странными повестями конца семидесятых — начала восьмидесятых, как «Предтеча», «Отдушина», «Отставший», «Гражданин убегающий» и, конечно, о «Сюре в Пролетарском районе».
Мне, кстати, очень понравилось… Ну, что тут понравилось? Мне позвонили из «Газеты.Ru» и попросили как-то прокомментировать смерть Маканина. Я начал это делать. И вот сейчас уже прочел в «Газете.Ru», что, оказывается, у Маканина есть повесть «Влас». Ну, я никаких претензий не имею к авторам, тем более к современным молодым авторам, которые «Лаза» не читали, но я просто хочу их поправить. Они когда со слуха записывают, даже при спешке, они могли бы все-таки заглянуть в библиографию Маканина и увидеть, что повесть называется «Лаз», потому что Ключарев спускается в некую щель и там, проходя через этот лаз, находит такой закрытый приемник-распределитель, откуда он тащит домой жалкие крохи.
Дело в том, что это не просто метафора дефицита или трудности доставания, или самой ключаревской жизни, которая… Ну, у него там ребенок ещё больной. И все это похоже на такое протискивание в некий узкий лаз, как и жизнь большинства людей в России. Но тут лаз — это ещё очень мощная метафора потому, что русское общество пронизано такими тоннелями — и не только вертикальными, а и горизонтальными — тоннелями таких связей.
Это, кстати, одна из самых важных и болезненных тем Высоцкого. Вот я собираюсь об этом написать, потому что у Высоцкого была уверенность, что противопоставить вертикали можно только лазы, вот эти горизонтальные связи.
Проложите, проложите,
Хоть тоннель по дну реки,
И без страха приходите
На вино и шашлыки.
Вот это — построить лазы внутри общества. Это то же, что есть в «Балладе о детстве». Помните:
Коридоры кончаются стенкой,
А тоннели выходят на свет.
Вот по Маканину, русское общество в девяностые годы спаслось потому, что оно было пронизано вот этими лазами, этими горизонтальными и иными связями. И эта метафора у него сделана великолепно.
Маканин вообще пошел (я говорил об этом много раз) в известном смысле дальше Трифонова. Это не значит, что он стал писать лучше Трифонова. Просто вообще двумя главными городскими прозаиками, прозаиками городской, а по-умному говоря, экзистенциальной тематики — тематики такой непочвенной, в каком-то смысле даже, я бы сказал, антипочвенной,— двумя такими писателями были Трифонов и Маканин. И у каждого из них был инструментарий для этого.
У Трифонова — прежде всего исторический. Трифонов весь пронизан историей, её токами, историческими ассоциациями. Для него мир — это такой многослойный пирог, где реальность, современность — это только самый верхний корж. А вообще проза Трифонова очень глубоко фундирована, тщательно проработана. У него шестидесятые годы и семидесятые годы XIX века — это тот фундамент, на котором стоит реальность «Обмена», «Долгих проводов»… то есть «Долгого прощания». Интересно очень, что «Долгие проводы» Муратовой и «Долгое прощание» Трифонова появились одновременно. Это тема долгого прощания с историческим наследием, перерождение, потому что началась другая жизнь. Вот у Трифонова было это второе — историческое — измерение. У Маканина было измерение метафизическое, религиозное, притчевое; он ушел в фантастику.
И одна из самых лучших его притч фантастических, которая с виду маскируется под чистый быт, а на самом деле это, конечно, легенда,— это «Где сходилось небо с холмами». Вот эта маленькая повесть, после которой, как сказал Веллер, по-моему, очень точно, стало ясно присутствие в литературе нового огромного художника. Маканин до этого много написал, но главной его вещью для семидесятых было «Где сходилось небо с холмами».
История о том, что вот есть такой поселок где-то на условном Урале, и весь этот поселок поет замечательно. И вот из песен этого поселка вырастает композитор, мальчик один, музыкант, который вырос, уехал в Москву, вобрал в себя всю песенную силу этого поселка и унес её с собой — и поселок этот больше не поет. Как ни странно, это такая очень мощная метафора интеллигенции, которая вобрала в себя весь ум, весь талант народа, всю его потенцию и унесла это — и народ остался без голоса. Здесь можно многие разные трактовки предлагать. Эта вещь вообще почти шукшинская по своей изобразительности и силе. Но там есть то, к чему Шукшин только-только начал подбираться к концу жизни,— сказочность, условность. И благодаря этому Маканин умудрялся писать такие удивительно мощные тексты.
Знаете, мне кажется, что самое точное, на что это похоже? Самый точный аналог маканинской изобразительности — это… ну, это нельзя назвать карикатурами, это живопись и графика Гарифа Басырова. Вот это такие… Ну, немножко Целкова. Это такие огромные статуарные персонажи среди природы или на фоне каких-то дымящих труб, в абсолютно условном пространстве, в котором есть одна-две городские приметы, но на самом деле это человек, взятый в объектив отдельно, отдельный человек. И это экзистенциальное отчаяние, экзистенциальные эти драмы у Маканина есть.
Вот Маканин интересовался иррациональными тайнами жизни. Его интересовала психология сознательно отставших людей, которые перестали участвовать в гонке за карьерой и благами, и что они находят взамен. Его интересовал феномен такого неосоветского оккультизма. В этом смысле, пожалуй, самая его прорывная вещь — это «Предтеча», потому что никто тогда о них не писал — вот об этих целителях, проповедниках, ходящих, живущих по чужим квартирам, ведущих полуподпольное-полулегальное существование. Это такой советский оккультизм. Высоцкий, неизменно очень социально точный, он же тоже об этом много написал — и о говорящих дельфинах («То у вас собаки лают, то руины говорят»), о йогах, о таинственных инопланетянах, о Бермудском треугольнике. Это все очень волновало советского человека. Вот эту тоску по духовности и абсолютно уродливые формы, которые она будет принимать,— это почувствовал Маканин.
Ведь предтеча у него — это предтеча чего? Многим казалось, что это предтеча духовного прорыва. А на самом-то деле это предтеча духовной катастрофы, потому что этот герой — носитель собственного, так сказать, безмерно раздувшегося эго — это именно знак конца советского мира, знак того духовного хаоса, в который этот мир очень скоро свалится. Мы думали, что это будет торжество души — а это будет торжество тщеславия и бесконечно раздутого эго, которое жаждет манипулировать другими. Мне кажется, что о том, как будет заканчиваться духовная жизнь советского социума, Маканин первым сказал; и сказал удивительно, сказал убедительнее всех.
Конечно, большую славу принес ему маленький рассказ «Ключарев и Алимушкин». Почему фамилия Ключарев так для Маканина значима? Ключарев — его альтер эго. И цикл этих произведений он объединил в так называемый «Ключарев-роман». И в «Лазе» тот же самый персонаж. Не просто потомок ключаря. Это именно человек, взыскующий ключи, ищущий ключа к мирозданию. И вот «Ключарев и Алимушкин» — это такая история о том, как одному иррационально везет, а другому иррационально не везет, и как они между собой связаны. И можно ли исправить это положение, когда одному все, а другому ничего, и когда один как бы перетаскивает к себе как магнитом все от другого и совершенно в этом не виноват? Можно ли эту ситуацию как-то переломить? Вот это тоже очень по-маканински — такой метафизический подход к быту.
«Сюр в Пролетарском районе» — вообще, честно говоря, моя самая любимая вещь из маканинских. Вот там типичный маканинский герой, который все время называется слесарек. Это маленький человек советской эпохи, но он… Ну, мы-то понимаем, конечно, что он сходит с ума. Он долго смотрит на плакат, на котором огромная рука подхватывает падающего с крана человечка,— и ему начинает казаться, что за ним охотится такая же огромная рука. А постепенно, как это всегда бывает у Маканина, его бред становится правдой: действительно, огромная рука носится за ним везде и готова его схватить.
И знаете, это произведение ранних девяностых, оно было в каком-то смысле самой точной метафорой происходившего тогда, потому что как вы ни относитесь к девяностым годам, а вот ощущение, что за нами всеми охотится огромная рука реальности, от которой мы долгое время были защищены советской теплицей, это ощущение тогда испытывали многие, это было довольно грозное время. И там герой, он же… Действительно повествование проведено виртуозно, и в этом смысле оно немножко напоминает «Орля» мопассановское, где все время на каждый аргумент в пользу безумия добавляется аргумент в пользу реальности этого бреда — и читатель беспрерывно балансирует.
Ведь действительно каким-то образом этот слесарек падает — а это рука его щелкает. У него все его небогатые покупки, яйца, хлеб, все это смялось в сумке — а это рука ему смяла. Он влетает в общежитие жалкое, в котором живет с Клавкой своей,— и рука следом наподдает ему. И эта рука лезет в окно. Она не может его схватить (вот это очень важно), только когда он на людях. Вот стоит ему остаться одному — и эта рука тут же его хватает, тут же его настигает на всех путях. Действительно, стоило советскому человеку остаться одному хоть на минуту — и мир начинал хватать его, потому что внутреннего-то содержания у него не было, ему нечем было противостоять этой страшной руке мира. Он мог её только колоть своим штырем, заточенным на работе.
И «Сюр в Пролетарском районе»… Я уж не говорю о многочисленных смыслах, трактовках, о точности социального ощущения. Я говорю именно о поразительной художественной силе. Уже после первой фразы «Человека ловила огромная рука» — все, вы уже не оторветесь. И кстати, Маканин умел писать не только трудно, сложно, коряво, очень занозисто, но он умел писать необычайно легко и увлекательно. И увлекательность его сложной прозы для меня — это очень серьезный комплимент, очень важное её достоинство.
И потом, что ещё важно помнить? Маканин давал необычайно точные социальные диагнозы. Вот «Гражданин убегающий» — наверное, одна из самых точных его повестей, вызвавшая самые большие тогда споры. Из всей плеяды пишущих тогда вот эту городскую социальную прозу — ну, Руслан Киреев в частности, отчасти Битов, отчасти целое поколение молодых авторов, Валерий Алексеев например,— на этом фоне Маканин выделялся именно такой безжалостной, хирургической, я бы сказал, математической точностью диагноза, поскольку он, вообще-то, и был математик по образованию, даже некоторое время успел попреподавать в вузах. Он целую прослойку вот этих отставших или граждан убегающих зафиксировал и припечатал.
Но кто такие убегающие? Вот это очень важно. С одной стороны, это человек, который, как и Потапов у Горина, все время находится на бегу, все время в темпе решает свои проблемы, лишь бы только не задержаться, не остановиться, не задуматься. Но это в наименьшей степени. А в наибольшей — он убегает от всех социальных обязательств, от семьи, от проблем. Он ускользает. И в каком-то смысле он, вообще-то, прав, потому что давать себя запутать в эти связи — это самое безнадежное дело.
Эти же убегающие были отчасти темой шпаликовской «Долгой счастливой жизни», потому что там герой ведь убегает от попыток захомутать его в семью. Тогда писали: «Ах, это социальная безответственность!» А что, просидеть всю жизнь сиднем и всю жизнь быть прикованным к одному месту, и всю жизнь тянуть лямку никому не нужную — это социальная ответственность? Убегающий для Маканина — это, может быть, и спасающийся, это выпадающий из ваших тенет и рамок. И он совершенно правильно этот тип зафиксировал. Не говоря уже о том, что это было всегда прекрасно написано.
Что касается маканинского стиля. Я сравнительно мало его читал в детстве и в молодости (я начал его читать, когда уже мне было хорошо за тридцать), и именно потому, что меня как-то смущало многословие, огромное количество отступлений и скобок, особенно в «Андеграунде», где это было сделано просто сознательным приемом. Вот эти скобки, ответвления, эта корявость, шершавость, занозы, синкопированность этой прозы — это меня смущало. Особенно трудно мне было читать, я помню, «Отдушину» из-за её дикого многословия.
Но я потом понял, что любовь двух людей — вот этой странной поэтессы Алевтины и стареющего хозяйственника, у которых почти ничего нет общего, но которые тем не менее друг для друга — отдушина, ну, такая «делать нечего — любовь»… Мне было физически трудно. Вот читать Петрушевскую гораздо веселее, хотя и страшнее, потому что Петрушевская — она острая, быстрая, у нее динамическая проза, очень личная, она насыщена бытовыми интонациями. У Маканина это не так. Маканинская проза ходит кругами, топчется на месте, спотыкается, как вот этот его слесарек. И это я понимаю — потому что он таким образом передает сердечный ритм загнанного человека.
И что ещё очень важно? Маканин был, конечно, блестящим педагогом, он воспитал великолепное поколение учеников. И среди учеников Маканина в его семинаре я бы выделил ныне совершенно забытое имя — Елену Семашко. Вот её рассказы — «Обстоятельства», «Михаил Третий», ещё какие-то, которые через мои руки в разное время проходили,— они выдавали в ней блестящего писателя, жестокого, серьезного, совершенно ни на кого похожего (ну, похожего, может быть, немного на самого Маканина вот этой жестокостью социального диагноза). Она печаталась в сборниках выпускников Литинститута, немножко в периодике. Один её рассказ я напечатал в «Столице».
Она была блестящим писателем и лучшей маканинской ученицей. Я помню, она училась в том же семинаре Маканина в Литинституте, где Вера Цветкова, тоже человек изумительного таланта.
Что касается Маканина-педагога. Вот от его многих учеников я знал, что он не учил писать, а он учил жить с писательским талантом. Это самое трудное. Потому что писатель — он вообще существо мнительное, завистливое, ипохондрическое. Просто не все имеют склонность это признать, не все имеют мужество сказать, как трудно жить с этим набором человеческих качеств. Людей куда только ни мечет. И самое ужасное, что набором этих качеств обладают в равной степени и графоманы, и гении. Просто писатель расплачивается, вне зависимости от своего литературного качества.
И вот Маканин учил жить с собственным талантом, жить с писательским характером, преодолевать минусы этого характера и посильно переводить их в плюсы. Поэтому его как педагога до такой степени ценили ученики. И потому, собственно, он был, наверное, в Литинституте одним из самых популярных мастеров. При том, что Маканин не мог научить писать, как Маканин; он мог научить более или менее жить, как Маканин.
И очень жалко, мучительно, что мало в последнее время удавалось говорить с этим человеком и слышать его. И мучительно жаль, что мы его больше не услышим. Но время его сейчас перечитывать, потому что наши проблемы глубже социальных, глубже психологических — они от самого корня человеческого бытия идут. И вот Маканин к этому корню был близок.