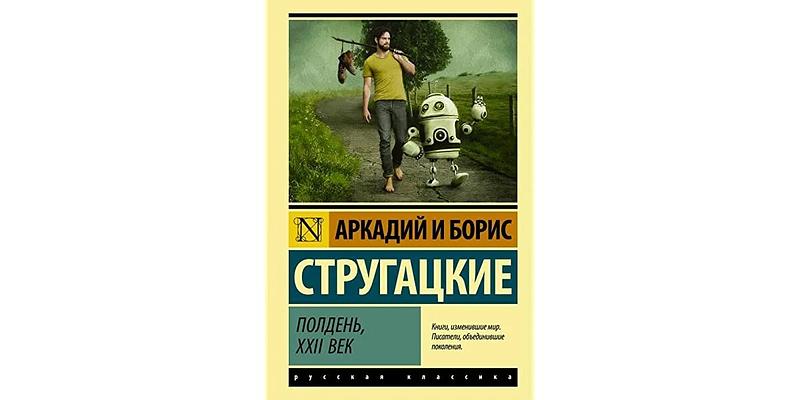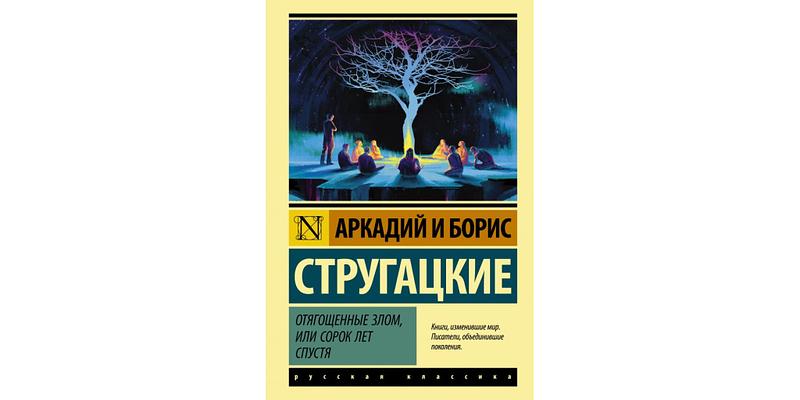Вот это два немецких романа, которые вписываются в широкий и малоисследованный, к сожалению, пласт европейской литературы двадцатого столетия: романы об умышленных странах и городах. Я бы назвал, конечно, в первую очередь, романы Перуца в этом ряду, роман Домаля «Гора Аналог» — незавершенный, но тоже об этом. Некоторые рассказы Грина (например, «Сердце пустыни») и, как ни странно, «Сердце тьмы» Конрада. Вот «Сердце пустыни» и «Сердце тьмы» образуют довольно странную пару. Это такие, в сущности, два лица одного автора.
Мечта о маньяке-магнате, который создает сверхгород в пустыне или, как, скажем, у Кубина, в предгорьях Тибета,— это довольно распространенная мечта (она и у Барченко есть) в мистике — иногда низкопробной, иногда великолепной — начала двадцатого века. Правильно совершенно замечает большинство рецензентов, что Кубин, изображая эту «другую сторону» — умозрительный город Перле (который построил таинственный маньяк, сказочный богач), он с одной стороны ужасается, а с другой любуется. Интересно, что завершение этой темы наступило в романе Стругацких «Град обреченный», где тоже взят такой умозрительный город чудес.
Я кстати, уверен, что Стругацкие не читали Кубина, а совпадение-то поразительные, начиная со стены и кончая бессолнечностью, испытаниями, которым подвергаются жители этого города. И главное ощущение человека, в нем живущего,— он никогда не знает, что с ним будет завтра, потому что его позиция очень зыбка, ни на что нет твердых цен. Это такой город воспитания, и это попытка воспитания чудом. Кстати говоря, в реальности такую утопию попытался построить, на мой взгляд, Илья Хржановский, снимая «Дау». Там тоже был построен маньяком и магнатом город со своей валютой, со своими правилами, довольно непредсказуемыми, меняющимися. Такая модель «Града обреченного», больше похожая на «Другую сторону» Кубина, мне кажется. И фильм, который получился гениальным (вот этот проект) — это хроника именно этого проекта.
Надо сказать, что советские шарашки строились во многом по тому же принципу, но они, конечно же, были несколько более рациональными. Вот мне кажется, что главное развитие утопической темы или, если угодно, антиутопической темы в литературе двадцатого века, шло как раз по линии вырождения и гибели таких искусственных сообществ. Потому что человек, попав в него, оказывается не воспитуем, оказывается в некотором смысле обречен, и как в замечательном фильме «К звездам», мы принесли на Луну проблемы Земли. Достигнув Луны, мы не избавились от проблем Земли — мы перенесли их туда. Люди, помещенные в Град обреченный, к сожалению, начинают повторять свою земную жизнь. И мир «Другой стороны» полон таких вот скандалов, полон ужасов.
Кстати, другая мысль, предсказанная Казаком, есть и у Стругацких в «Пикнике…». Потому что ведь «Город за рекой» — это город воскресших мертвецов. Там воскресает отец героя, что перекочевало в роман Стругацких (которые тоже, я уверен, не читали Казака), это воскресшая его возлюбленная, которая там ему мерещится. Я думаю, что и Лем в «Солярисе» если и не находился под влиянием Казака (он-то уж о нем знал в виду более близкого соседства), то во всяком случае, в поле тех же самых идей. Такой мир воскресших мертвых. Но самое ужасное, что мертвые остаются теми же самыми, перерождения не происходит. И поэтому главная мысль всех утопий, антиутопий двадцатого века — это мысль о непобедимости человеческой природы, о подлой непобедимости. И с другой стороны — прекрасной непобедимости, потому что нельзя построить утопию, нельзя построить фашизм, нельзя построить коммунизм — человека заменить нельзя. Вы не можете заменить человека. «Проклятая свинья жизни», как называли это Стругацкие. Другое дело, что утопии начала двадцатого века этим миром еще любуются, а утопии конца или утопии послевоенные, как книга Казака, показывают полную безысходность. То, что человек и после смерти,— это только человек. И вот живите с ним как хотите. Переделать его, увы, вы не можете.