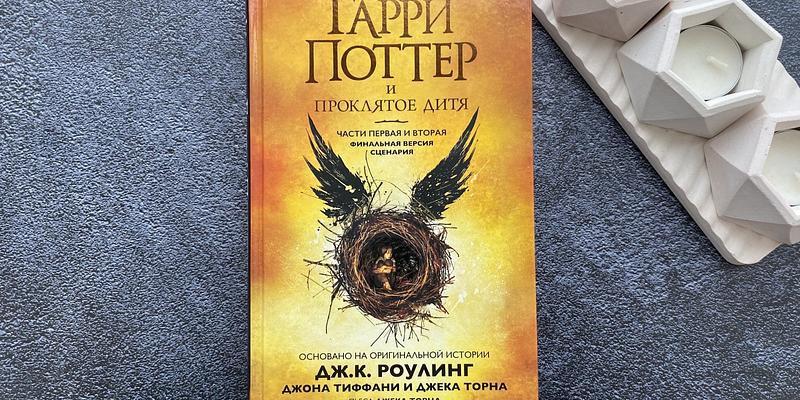Мне кажется, что Луцик и Саморядов потому и не получили адекватного киновоплощения (хотя у них очень киногеничные сценарии, великолепная драматургия, это очень хочется представить себе на экране), потому что к ним неправильно относились. Их пытались снимать, пытались экранизировать как последних советских сценаристов, а они первые сценаристы постсоветской эпохи. Просто их время еще не пришло. Оно придет, когда весь этот распад, среди которого мы сейчас живем, завершится. Когда закончится время прощания с советской действительностью. Она сейчас еще очень укоренена и какими-то штампами живем, даже досоветскими, что еще страшнее. Какими-то самодержавно-православно-народническими. На самом деле, Луцик и Саморядов, как мне представляется, в «Дюбе-Дюбе» все правильно сказали. Помните, там адвокат начинает фразу, но не заканчивает. Он говорит: «Будет, по-моему, три этапа. Первый — это окончательное прощание с совком, а дальше… Впрочем, я заболтался». Они не очень представляли, как этот второй этап будет выглядеть. Они думали, что что-то зреет. Отсюда название короткометражки «Канун», в которой уже удивительным образом есть большой стиль, хотя это студенеческая работа. Но посмотрите, как остро они чувствовали, что что-то зреет и начинается народный бунт. Народного бунта не случилось, слишком сырой оказался хворост, слишком сырым оказался порох. Может быть, и слава богу, это к счастью. Пошло такое тихое пламя, подземное, вроде горения торфяного болота. Но когда закончится этот этап, мы все равно окажемся в «диком поле».
«Дикое поле» — это название их последнего сценария, может быть, самого великого. Но в нем совершенно нет действия. Это такое ангельское существование: земля, где никто не умирает. Потому что если в эту землю закопать, человек воскресает. У меня есть ощущение, что мы живем накануне «дикого поля». Мы живем накануне тех времен, когда люди станут хозяевами своей судьбы. Отчасти это показано, конечно, в «Окраине». Но «Окраина», придуманная Луциком и Саморядовым, и Луциком экранизированная, все-таки о том, как они загрызли партийца, как они подожгли кабинет олигарха, а здесь это произойдет само, тихая гангрена сожрет это все. И дальше откуда ни возьмись выйдут на просторы дикого русского поля вот эти люди, герои Луцика и Саморядова.
Неправдой было бы говорить, что это советские персонажи. Советский большой стиль у них, скорее, пародируется. Это люди, которые скрытно жили здесь. Они скрытно в этих степях умудрились прожить все советское время и досоветское время. Это скрытое пламя пугачевщины, которое тлеет и вдруг выскакивает на поверхность. Они не советские, они именно досоветские. Они те невидимые, держащие Россию на плечах богатыри, которые где-то есть и которые в критический момент выходят наружу. Луцик и Саморядов жили ожиданием того, что эти персонажи появятся и заявят о себе. Они есть в «Дюбе-Дюбе». И там Андрей говорит Вите (это, конечно, автопортрет такой, причем они поровну поделены между Андреем и Витей): «Я же все им могу придумать. Если бы они к нам прислушались, мы бы все им написали, мы бы написали им такую жизнь! Но они этого не хотят». «Я вам отработаю, я вам отслужу, я вас сделаю так, что вы будете плакать от счастья, но прислушайтесь ко мне!» Или там: «Отпустите эту девочку ко мне, я вам отработаю». Но так получилось, что никто не хочет слушать.
Луцик и Саморядов погибли ведь отчасти и от того, что в этой эпохе задохнулись; погибли от невостребованности. Их герои — их просто некому было сыграть. И попытки, скажем, Балуева в какой-то момент играть это, может быть, Сидихина — они все-таки были одинокими. Это не их актеры. По-настоящему их актер еще не пришел. Некоторые из них найдены, и удивительно, что одни и те же актеры появляются и в «Кануне», и в «Окраине». Олялин появляется в «Окраине», кстати, в частности. Но у меня есть ощущение, что эти герои должны быть, что ли, более будничны как-то. А вот этот абсурдизм Саморядова в сочетании с довольно трезвой иронией Луцика приводили к появлению нового героя, героя не пафосного; героя, который до поры маскируется, иногда под совершенно мирного жителя (как в «Празднике саранчи»), но потом из него выскакивает эта тайная, темная, очень восточная сущность. И она начинает довлеть и побеждает, и вернуться назад он уже не может. Ему возвращаться некуда.
Я думаю, что некоторые герои угаданы очень приблизительно в кинематографе последних лет, но пока еще их портит истерия, они испорченные. И потом, из хипстера же не сделаешь героя «Праздника саранчи», тем более, героя «Дюбы». У меня есть ощущение, что в 90-е годы главный упущенный шанс — это шанс созидания. Потому что все-таки ностальгия оказалась сильнее, и она утянула куда-то назад. А такие люди, которые могли созидать искусство будущего, искусство принципиально новое, или меняли профессию, как Бахыт Килибаев после долгих вынужденных занятий поденщиной. Или они просто гибли. Гибель Луцика и Саморядова с интервалом в шесть лет просто кажется случайной. На самом деле их убило время: русская история поразительно наглядна. При этом они постоянно получали заказы: то на сценарий «Лимиты», и они написали замечательный сценарий внутри, который потом Квирикадзе сумел адаптировать, но это была уже другая вещь. Получали заказ на сценарий фильма для Аллы Пугачевой, и они замечательно его написали. Но от них требовали гривенника, они делали рубль. «У меня рубль! Нет, ты копейку вставь!» — вот это, что цитировал Чуковский применительно к Тынянову. От них требовалось меньше, и поэтому они находились в известном тупике.
Мне кажется, «Дикое поле» — это уже сценарий загробный, это ощущение какой-то невозможной жизни, будущей, возможно. По-настоящему тот «Канун», о котором они писали, так и не поставлен. Там ведь что происходит? Там неожиданно все люди, которые сидят на вокзале, срываются с места и куда-то идут. «Будут у нас еще и бабы сладкие и жизнь веселая». Срываются и идут по вокзалу. Вокзал вот этот — такая граница. Тогда действительно на вокзалах нашествие какое-то дикой России наблюдалось. Как будто вся Россия сорвалась с места и поехала то ли в Москву, то ли за границу, непонятно куда. Было ощущение страны, сорвавшейся с места. Как помните, Пастернак говорил: «В 1917 году казалось, что митингуют улицы, митингуют дома, голосуют деревья». Было чувство, что вот-вот все сорвутся с мест и пойдут в какое-то будущее.
Этого всего не случилось. В какой момент это выдохлось, сказать очень трудно. В 1991 году, может быть, в 1993-м, а может быть, кстати, кино как профессия стало рушиться именно тогда. Не стало проката, не стало сколько-нибудь серьезной режиссуры. А та, что была, что была собрана малобюджетным проектом студии Горького, тоже задохнулась, по большому счету. Новая волна осталась без применения. Двадцать лет не снимал Ливнев. Уцелел Тодоровский с его потрясающей адаптивностью, и то мне кажется, что очень много его фильмов не равны тем обещаниям, которые он давал. «Подвиг», который они с Коротковым написали,— если бы они осуществили его тогда, другой была бы не только их судьба. Другой была бы судьба русского кинематографа. И Балабанов, мне кажется, в какой-то момент надломился, потому что «Брат-2» был во многом капитуляцией. Мне, кстати, сейчас Велединский рассказал поразивший меня факт: оказывается, Балабанов недолюбливал «Братьев» обоих, оба фильма. А любил он «Груз-200» и «Мне не больно», такую исповедальную картину.
У меня есть ощущение, что 90-е годы надломились по-настоящему уже в 1991-м. Потому что все обещания, данные в 1985-1989-м, были заболтаны, и энергия 1989 года растаяла в воздухе. Может быть, иначе быть не могло. Но как бы то ни было, и «Северная Одиссея» Луцика и Саморядова, и «Дюба-Дюба», и в огромной степени, конечно, «Кто-то там, внутри» — это обещание великих новых людей. Нам предстоит (помните, как в рассказе Туве Янссон «Филифьонка в ожидании катастрофы») дождаться некоторой не скажу очистительной бури, но начала с нуля. Вот ощущением этого кануна, этой пустоты у них проникнуто все.
Кстати говоря, и «Дети чугунных богов». Я во многих разговорах, которые у меня были с Луциком и Саморядовым, спрашивал их: «Почему они обратились к производственной драме?» И Луцик тогда сказал: «Ведь это же лучший триллер — на производственном материале». Это страшное напряжение. Но это — хотел бы я подчеркнуть — все-таки не советская производственная драма. Это драма, которая разворачивается именно в каком-то диком поле, в какой-то пустоте. До известной степени, самый луциксаморядовский фильм русского кино по стилистике — это написанная совсем не ими, а написанная Александром Миндадзе кинодрама «Магнитные бури». Пролетарии, которые там действуют,— это герои будущего, это герои тех времен, которые еще не появились. По каким приметам мы их узнаем, сказать очень трудно. Мне хотелось бы, по крайней мере, верить, что эти люди куда-то когда-то о себе заговорят.
У меня есть другое довольно печальное ощущение, что наши времена сегодняшние требуют от нас заснуть любой ценой, затормозить. Но это сон на краю пропасти. А вот парашютом над этой пропастью может оказаться либо творчество Абдрашитова и Миндадзе, либо творчество Луцика и Саморядова. Перечитывать их сегодня я советую очень внимательно. Донбасс — это, конечно, не их герои. Вот то, что настанет после, это они.