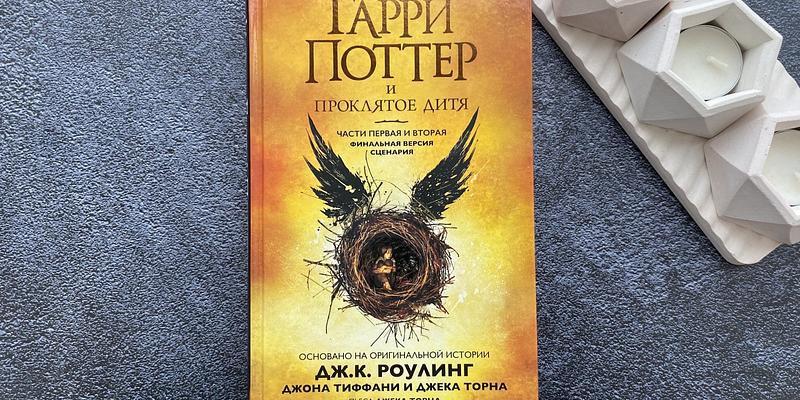«Кому на Руси…», безусловно, великий эпос, прозопоэтический, поскольку в чистом виде поэмой назвать это, конечно, нельзя. Это именно эпос, грандиозная эпическая поэма. Будь она дописана, она была бы великим ответом Некрасова на главные мировые вопросы, и русские в частности. Может быть, она ответила бы на главный русский вопрос, который вынесен в её название. Но относительно этого названия Некрасов же и сам не знал однозначно, как следует ему вещь закончить. Уже умирая, Боткину, хирургу, он рассказал, что, возможно, возвращаясь после неудачных поисков от царя странники найдут в канаве пьяного и поймут наконец, кому на Руси жить хорошо. Вот ему лучше всего. Конечно, Гриша Добросклонов не может считаться счастливцем.
Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.
Сохранились подробные прозаические планы. Думаю, что наиболее сильной из ненаписанных частей была бы история эпидемии холеры на Волге, потрясающе написанная. Из тех частей, которые есть, мне больше всего нравится «Последыш», с гениальным, на мой взгляд, психологическим наблюдением.
Там в чём история? У меня как раз в новой книжке, которая сейчас выйдет, есть стишки на ту же собственно тему — о том, что можно жить при тиране, но нельзя жить при чучеле тирана. Там какая история? Там есть помещик, которого удар хватил. И он, если ему сообщат об отмене крепостного права, может помереть немедленно. Ну, такой «Гуд бай, Ленин!» своего рода. Вся родня, все крестьяне, даже управляющий, ему врут, говоря, что по-прежнему рабство живо. И он за провинность (кто-то лес его рубил), призывает посечь как следует одного из мужиков. И ему тогда управляющий говорит: «Ты приходи на конюшню, мы тебе выставим хлеба и зрелищ, и водки. Пей, сколько хочешь, только ори, чтобы он думал, что тебя секут. Мы будем изображать сечение, а ты изображай страдания». Приходит этот мужик, пьёт. Орёт страшно! Изображает буквально засечение до смерти. Ну а потом через два дня он взял да и помер, мужик этот. Понимаете? Тот, которого и пальцем не тронули. Он просто изображал, что его секут. Вот это гениальное психологическое наблюдение. Потому что можно жить при несвободе, но когда возвращается несвобода, когда она имитируется — вот при этом доживать нельзя.
Я хорошо же помню семидесятые, начало восьмидесятых, в 1983 году я уже в газетах печатался, страшно сказать. Многие мои подруги дней суровых, они ещё не родились в то время, а я уже писал в «Московском комсомольце». И я прекрасно помню атмосферу восьмидесятых и атмосферу конца семидесятых, и разговоры на родительской кухне, и дачных наших гостей-диссидентов. Всё это я очень хорошо помню. Вот той безысходности, что сейчас, не было. Потому что сейчас, когда мы наблюдаем такого Юлиана Отступника, условно говоря, ужас же не в масштабе, а ужас в том, что это вернулось и кажется вечным. Вот то, что вернулось, оно кажется вечным, потому что всегда возникает ощущение, что вот это и есть матрица. Потом, конечно, это кончится, и смешно и абсурдно будет это вспоминать, но пока надо это возвращение, эту петлю эпохи как-то перетерпеть. В петле такой, конечно, ничего хорошего нет.
Вот то, что Некрасов это почувствовал, за это ему большое спасибо, потому что он-то ведь пережил оттепельные надежды, которые в 1864 году разочарованием величайшим для него закончились, когда он вынужден был писать оду Муравьёву — страшнейший эпизод в его биографии. Понимаете, можно было пережить Николая, и при Николае он писал лучшие вещи. В конце концов, сюжет и главные тексты всей первой книги стихотворений, открывавшейся «Поэтом и гражданином» и вышедшей в 1855 году,— всё это написано в так называемое «мрачное семилетие», при позднем Николае. А позднего Александра (конец 1860-х и 1870-е) Некрасов уже вынести не смог.
И я думаю, что его поздняя депрессия, конечно, была именно из-за того, что после кратковременной надежды и реформ просиявших вдруг опустилась новая темнота — не хуже прежней, нет. Конечно, николаевских зверств уже не было, солдат не запарывали, мужики обрели хоть какую-то свободу и так далее, но тошнее было. Очень тошная всё-таки эта эпоха — 1877 год. О чём, надо сказать, Толстой в «Анне Карениной» написал с предельной откровенностью, восьмую часть даже Катков не пропустил.