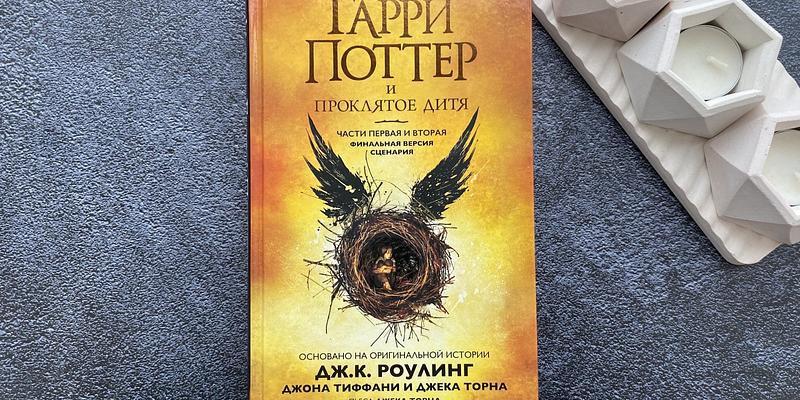Видите ли, я, наверное, сам не лучший эксперт по творчеству Сосноры. Почему? Потому что я такой традиционалист, а Соснора — это очень радикальный авангардист. Проза его, о которой много писал, скажем, Владимир Новиков и о которой достаточно убедительно писали в разное время Арьев, Гордин, все великие современники,— она вообще мне кажется чрезвычайно трудной для восприятия. Её главное достоинство — это такой пружинный лаконизм, очень малое количество слов при страшном напряжении смыслов.
Что касается поэзии его, то здесь я уж совсем традиционен. Мне нравятся такие его тексты, скажем, как «Гамлет и Офелия»,— по-моему, замечательный лирический цикл.
Неуютно в нашем саду —
соловьи да соловьи.
Мы устали жить на свету,
мы погасим свечи свои.
На меня это, когда мне было лет шестнадцать, действовало совершенно гипнотически. И потом, я очень любил… Наверное, грех в этом признаваться. Я говорю, я люблю простые вещи у Сосноры. Ужасно я любил «Сказание о Граде Китеже» («Но я вернусь в мой город Китеж»). Это довольно простое стихотворение — простое в том смысле, что там ещё опущены не все звенья, там ещё экономность письма, метафоричность его не доведена до той трудночитаемости, которая есть у Сосноры позднего, годах в семидесятых. Это стихи, насколько я помню, 1962 года. Мне очень нравилось оно. Мне очень нравилась его жестокая пародия на фильм «Мулен Руж» — замечательное стихотворение «Мулен-Руж», действительно очень смешное. Некоторыми строчками оттуда мы в студенческие годы радостно обменивались, типа: «Стал пить коньяк, но как не пил никто». Мне действительно ужасно нравились (и тоже грех в этом признаваться) его ранние лирические стихи — не эти вариации на тему «Слова о полку Игореве», а то, что вошло в «Ливень», в первую книжку, в «Солнечный ливень», по-моему «Январский ливень». Там много было замечательного.
Другое дело, что в Сосноре никогда не было той захлёбывающейся шестидесятнической радости, которая мне всегда казалась несколько фальшивой. Он трагический поэт, конечно, готический поэт, поэт такого страшного взаимного непонимания. И настигшая его потом глухота, как мне кажется, даже принесла ему некоторое облегчение, как это ни ужасно звучит, потому что не надо было больше слушать всю эту ерунду. Он вообще по жизни, по образу жизни поэт одинокий, замкнутый, очень герметичный.
Но как бы там ни было, толстое «Избранное» Сосноры, тысячестраничное, которое я недавно купил в Петербурге,— это для меня книга достаточно настольная, потому что бывают времена, когда его стихи мне говорят очень многое. И я считаю его, безусловно, поэтом, входящим в первую десятку ныне живущих. Другое дело, что… Вот вы говорите, что он не прочитанный. Он не может быть толком и многими прочитан. Не нужно добиваться того, чтобы Соснора стал народным достоянием. Он именно поэт уединённых, полубезумных, маргинальных, явление очень петербургское. Хотя его исторические сочинения, например, поражают меня здравомыслием, объёмом фактической информации и глубиной.