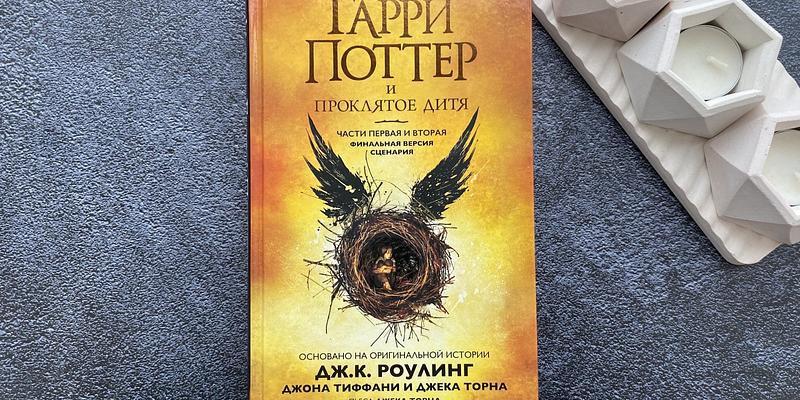Искандер — писатель такого класса, что о нём в 20 минут не расскажешь, и не расскажешь в час, а надо, конечно, серьёзно осмысливать вот какой феномен.
Очень долгое время Искандер воспринимался как один из хороших писателей 60-х годов. И вдруг неожиданно произошёл резкий спурт — и он вырвался в классики. Как это произошло? Он ничего для этого не делал. Искандер мне сам когда-то рассказывал с радостью, как он получил неожиданно вырезку из немецкой газеты, где было сказано: «Все шумят о Гарсиа Маркесе, а вот есть Искандер». Искандер, конечно, немножко похож на русского такого Маркеса. Во всяком случае, он заслуживает Нобелевской премии по одному очень важному нобелевскому критерию: он нанёс на карту мира, на литературный глобус территорию, которой до него не было. Конечно, его Абхазия не вполне тождественна Абхазии настоящей. Ну, точно так же, как, скажем, Халлдор Лакснесс описывает не ту Исландию, которая есть, и Маркес — конечно, не ту Колумбию, которая есть. Но это гениальное мифотворчество приводит к появлению такой новой мифологической территории.
В чём здесь сущность? Как сам Искандер замечательно сказал: «Зачем говорить «кавказское», когда можно сказать «архаическое»?» Действительно, он описывает эту архаику, жизнь рода в XX веке, в её новом преломлении. Когда-то Виктория Белопольская (привет ей большой), очень хороший кинокритик, очень точно сказала: «Финал «Тихого Дона» следует интерпретировать именно как торжество стихии рода. Ничего не осталось, кроме мальчика, кроме сына». И отсюда же, кстати, вот этот вал фильмов: «Свои», «Родня», «Близкие родственники», «Брат», «Брат 2», «Сёстры», «Мама», «Папа» и так далее — вал фильмов, посвящённых теме родства, потому что это последнее, что осталось. Идеология скиксовала, осталось родство, тёмная стихия рода.
И вот Искандер описывает… И в этом, конечно, его величие, в этом, можно сказать, причина его пусть запоздалого, но триумфа. А я, кстати, уверен, что своего Нобеля он ещё вполне может получить, надеюсь я. Он описывает приключения стихии рода в XX веке,— в веке, который разрушил всё, кроме вот этого большого дома. Я разумею под этим, конечно, не большой дом в значении Петербурга («самый Большой дом, откуда видно Колыму», прости господи), не Большой дом как здание ФСБ в Ленинграде, гэбэшное, а как здание, как домик в абхазском селе, в Чегеме. Большой дом — это родовое гнездо, откуда все они выпорхнули.
Что, собственно, происходит с родом в условиях XX века? Происходят три вещи.
Во-первых, очень во многом психология рода и семьи становится постепенно, как это ни ужасно звучит, такой мафиозной идеей государства — государство начинает во многом строиться как мафия. Ведь, строго говоря, «Пиры Валтасара» — сталинская глава в «Сандро из Чегема», она как раз и описывает, как эти азиатские, как эти страшные во многом, архаические практики переносятся на руководство государства. Конечно, мы понимаем, что руководство Абхазии как-то противопоставлено Сталину, оно домашнее, оно меньшее по масштабам, и это, в общем, почти комнатное зло. Но тем не менее мы понимаем, что архаические практики, родовые практики переносятся на большую политику. И это, конечно, катастрофа, потому что получается мафия нормальная, это бандитизм. Сталин же в «Пирах Валтасара» выведен просто бандитом, которого дядя Сандро впервые увидел, именно когда он прячется после «экса», после экспроприации, после налёта. И вот эта мафиозность, которая распространяется на структуры государственного управления,— это следствие того, что род остался последним источником морали, последней опорой человечности. И это не есть хорошо.
Вторая вещь, которая из этого произошла, ну, которая произошла с родом: семья в XX веке не только не распалась — более того, она в итоге укрепилась, потому что она осталась последним оплотом человеческого. Когда-то Искандер очень точно сказал (и он многажды писал об этом), что и либералы, и почвенники могут помириться на идее дома, потому что дом — это Родина в частном варианте. Вот идея строительства своего дома, квартиры, жилья, укрепления своих стен, своей родни — это, может быть, последний оплот здравого смысла. И поэтому большой дом для Чегема, для Сандро из Чегема, для Тали, вот этой красавицы чегемской, остаётся оплотом, спасением: там поймут, там примут, там есть какая-то надежда.
Третий вывод, который из этого следует,— это вывод самый страшный для Искандера, который, наверное, и привёл к появлению его нескольких самых страшных рассказов 90-х годов («Люди и гусеницы», вот этих). Я думаю, что он понял, он осознал недостаточность дома, его хрупкость, его архаику. И больше того — он понял, что архаика не может быть спасением.
Вот у меня была когда-то довольно интересная дискуссия с Ильёй Кормильцевым, Царствие ему небесное, и Кормильцев сказал: «Новая серьёзность придёт через архаику». Я подумал: да, может быть, это хорошо. А потом я понял, что это всё-таки шаг назад, это всё-таки отступление. Она пришла через архаику, да, и архаика-то, в общем, вернулась, но ничего хорошего уже из того не получилось. И Кормильцев сам пал жертвой этого — он умер оттого, что не мог больше жить в России, уехал и там умер, на чужбине. Бывают такие люди, для которых эта «пуповина» не рвётся. Мне кажется, что даже если бы не случилось рокового падения, после которого у него развился рак позвоночника, Кормильцев бы не смог там жить.
Мне кажется, что Искандер осознал, что эта новая серьёзность, это возвращение архаики — это не сулит добра. Потому что дядя Сандро — это фигура в высшей степени амбивалентная. Да, это и здравый смысл народа, и хитрость народа, и юмор народа, но вместе с тем это и праздность, и определённый конформизм, и жуликоватость. Искандер ведь не думал (он сам признаётся в предисловии) писать эпос, а он думал написать плутовской роман. У него плутовской роман не получился, потому что дядя Сандро не плут, вот в чём дело. Да, дядя Сандро — это отражение народной души, вот она сегодня такая. Но нельзя сказать, что за этой народной душой есть какое-то будущее. Дело в том, что эндурцы и кенгурцы, которые в детстве ещё были придуманы и которые там появляются,— они ведь тоже представители родоплеменной морали, они тоже архаичные народы. Просто эндурцы — люди глубоко фальшивые, лицемерные, карьерные, но это же тоже народ, понимаете. Поэтому у Искандера вы нигде не найдёте благоговения перед народом, благоговения перед народным здравым смыслом. Скорее наоборот — Искандер любит одиночек.
Для меня лучший рассказ Искандера, любимый — это рассказ «Сердце» из «Стоянки человека». Там, если вы помните, история о том… Она очень хорошо рассказана. Искандер — вообще блестящий рассказчик. И вот совет всем прозаикам начинающим: начните с поэзии. Потому что Искандер начал с баллады, очень такой киплингианской, но при этом он научился сжато, ёмко, без плетения словес рассказывать сюжет. Посмотрите, как рассказан «Морской скорпион», какая замечательная драма ревности. Посмотрите, как великолепно рассказано большинство рассказов о Чике. Он именно прекрасный новеллист, удивительный и нарративно-техничный повествователь.
«Сердце» — это история о том, как главный герой однажды, во время подводной охоты, чуть не утонул. Он там зацепился леской, не смог всплыть. Потом нырнул в последний раз уже последним усилием отцепить эту леску — отцепил; потерял сознание, выплыл бессознательно и очнулся уже на воде, жадно глотающим воздух. Но так получилось, что после этого у него начались сердечные перебои.
И вот однажды, уже после полного отказа от подводной охоты, он вышел на рыбалку с мальчиком. Проехал катер, нарочно их опрокинув в 2 километрах от берега. Апрель, вода холодная. И вот они плывут. Он постоянно растирает мальчика. Мальчик очень мужественный, говорит только, что маму жалко, но этот герой — Виктор Иванович [Максимович], по-моему, не помню — его всё время утешает. Но они доплыли. И он потом нашёл этого, который позабавился на катере, избил его люто. Но после этого заплыва у него у него сердце прошло, у него прошли эти перебои. Он вылечился, выбил подобное подобным.
Там, кстати, очень мощно заканчивается этот рассказ. Он написан в самые глухие застойные годы. И он заканчивается прекрасно. Пока рассказывает герой эту свою историю, всё время ходит рядом мороженщица и своими воплями «Купите мороженое! Купите мороженое!» всем мешает. И тогда встаёт один из героев из этой кофейни, покупает у неё весь лоток с мороженым и выбрасывает его в море. И там у Искандера замечательная фраза: «Это доказывает ещё, что есть красивый жест, роскошный жест. Терпения и мужества, друзья». Вот этой фразой заканчивается рассказ. «Терпения и мужества». Великое дело. И красота жеста, потому что в жесте ещё есть величие. Но, конечно, суть не в жесте, а суть в том, что главному герою удалось — пусть и через смертельную опасность — преодолеть страх.
Вот эта искандеровская мысль о достоинстве одиночки, о терпении, мужестве, красоте жеста одиночки мне очень близка, потому что ведь, в сущности, «Сандро из Чегема» — это вещь о конце архаики, о конце рода, о том, что архаика никого больше не спасёт, поэтому в окончательной своей редакции роман заканчивается словами: «Поэтому мы не скоро вспомним о Чегеме. А если и вспомним, то вряд ли заговорим». Это очень печальная, очень мрачная формула прощания с архаикой, с родовым мифом. Не спрячешься в доме. Больше того, перенесение практик дома, жизни дома на большой мир ведёт к его деградации, распаду и, в общем, конечно, нравственному падению.
Конечно, особенно мне нравится очень подробно исследованная у Жолковского (я часто на него ссылаюсь, он много пишет об Искандере, и Искандеру нравится это) театральность, театрализация всего, что происходит. Это отчасти, конечно, такая понятная восточная ритуализация всего, что происходит у Искандера. Естественно, что корни его прозы — конечно, отчасти и «Тысяча и одна ночь» с её сложной системой ритуалов. Но, конечно, в основном эта театральность, по мысли Искандера, присуща террору. Он вообще откровенный, честный писатель, и он очень хорошо поясняет в своих сочинениях (скажем, в предисловии к «Сандро из Чегема») ту мысль, что террор немыслим без театральности, и эту театральность он всю жизнь описывает, ему это чрезвычайно интересно.
Это действительно такая непрерывная комедия взаимной лжи: все герои постоянно притворяются, имеют в виду не то, что говорят; это всё такие восточные танцы. Конечно, и в «Пирах Вальтасара», и в «О, Марат!» герои постоянно занимаются тем, что они театрализуют насилие, с помощью лжи они театрализуют насилие. Кстати говоря, неслучайно именно по Искандеру поставлен один из первых советских боевиков «Воры в законе» Кары, потому что там как раз (насколько я помню, могу сейчас ошибаться, но, по-моему, именно это по Искандеру) вот эта театральность, ритуализованность садизма Искандера чрезвычайно привлекает. Особенно, конечно, это видно во всех диалогах, взаимных экивоках, сложном эмоциональном танце в «Пирах Валтасара», где каждый думает одно, говорит другое, делает третье, изображает четвёртое, симулирует пятое. Постоянно тщательно прописанные эти фигуры, этот балет по-настоящему.
Кстати говоря, Искандеру вообще присуща такая великолепная печальная афористичность и очень глубокий, хотя несколько издевательский психологизм. Особенно вот эта замечательная сцена в «Созвездии Козлотура», когда шофёр получает задание споить журналиста, причём журналист находится в преимущественном положении, потому что: «Я знал, что он собирается меня спаивать, а он не знал, что я об этом знаю». И тоже между ними происходит сложнейший эмоциональный танец, в результате которого журналист в конце концов спаивается благополучно, но при этом это делает с чувством собственного достоинства и с полным пониманием, что он всё равно раскусывает чужие вот эти сложные экивоки. Вот эта театральность и внутренняя драматичность диалога, вот эта замечательная глубокая психология, несколько издевательская, как я и говорил,— это отличало Искандера с первых вещей.
Конечно, знать его стали с «Созвездия Козлотура», которое потому только и смогло проскользнуть в печать, что в нём увидели сатиру на свергнутого Хрущёва, сатиру понятную на кампанию, кампанейщину, так называемый волюнтаризм в сельском хозяйстве. Но, конечно, это шире, чем сатира на Хрущёва. Конечно, это подробное отражение советской кампанейщины вообще. И до сих пор вот этот знаменитый диалог в статье «Посмеёмся над маловерами» идеально подходит ко всему.
В чём же собственно пафос, в чём смысл «Созвездия Козлотура»? Конечно, это сатира, но далеко дело к этой сатире не сводится. Ведь о чём на глубинном уровне, как мне кажется, эта вещь? О том, что именно этот идиотизм кампании вокруг козлотура даёт, с одной стороны, проявиться великолепному юмору народа, его здравости, его трезвости, а с другой… Вот это странный смысл, неожиданный. Я, наверное, один так понимаю эту вещь. Но дело в том, что советская власть при всём её идиотизме и была таким странным гибридом, чем-то вот вроде такого несуществующего козлотура, каким-то мичуринским гибридом. Помните, там же великолепная сатира. Там придумывают барана, который был бы как-то гибридизирован с ящерицей и мог бы отбрасывать курдюк, как ящерица отбрасывает хвост, потому что в результате он смог бы несколько курдюков дать на протяжении своей жизни, а дальше спокойно отращивать новый.
Конечно, суть не в этих абсурдах отдельных, а суть в том, что вся советская власть была результатом такого причудливого мичуринского гибрида. И, как ни странно, в этом козлотуре есть что-то и чудесное, что-то и прекрасное. Это, конечно, ужасный гибрид, но вместе с тем, она становится созвездием, она сияет на небе, как созвездие Козлотура. Поэтому с такой лёгкой печалью автор в конце… Помните, когда он кофе пьёт, собака тычется приятным мокрым носом в руку ему, какая-то лёгкая печаль есть в том, как кончилась вот эта идиотская утопия. Я думаю, что до известной степени вот таким страшным козлотуром — странным, никуда не годным, но всё-таки прекрасным — была в каком-то смысле сама советская власть.
Мне кажется, что поздние рассказы Искандера, которые демонстрируют его ужас и отчаяние перед междоусобными войнами, показывают его глубочайшее разочарование не только в архаике, не только в родине, но и, в общем, в человеческой природе. И поэтому его поздние стихи, составившие, по-моему, блестящий сборник «Ежевика», для меня не то чтобы утешительны, но это пример очень высокой поэзии. Мне кажется, когда он сочинял свои баллады, то это был разгон перед прозой. А вот поздние стихи — это лирика чистой пробы. Я всегда читаю и цитирую одно из любимых моих стихотворений:
Жизнь — неудачное лето.
Что же нам делать теперь?
Лучше не думать про это.
Скоро захлопнется дверь.
Всё же когда-то и где-то
Были любимы и мы.
А неудачное лето
Лучше [стоит] удачной зимы.
И ещё, конечно, я буду всегда помнить (Искандер очень точно формулирует всегда) его гениальный ответ на вопрос Игоря Свинаренко: «Вас называют мудрым. А чем мудрый отличается от умного?» И он замечательно сказал: «Умный понимает, как мир устроен. Мудрый умудряется действовать вопреки этому». Вот это очень точно: действовать поперёк этого потока. Вот это совершенно точно. Потому что ум — это легко. Ум — это понимание действительно хитрости мироустройства. А мудрость — это понимание выше логики, более серьёзное. И вот оно у Искандера есть.
Кстати говоря, я мало сказал здесь о художественном своеобразии его языка, его афористичности великолепной, о потрясающем рассказе «Летним днём», в котором дана потрясающая анатомия сознания при фашизме. Но я не могу не сказать о важной его стилистической особенности. Ведь дело в том, что Искандер — это удивительное сочетание велеречивости и афористичности. Как в своё время Лидия Гинзбург сказала очень точно: «Бродский — поэт без метафоры, поэтому, когда у него появляется иногда редкая метафора, она блистает, как алмаз на фольге».
Вот точно так же и Искандер — это сочетание долгого периода, долгого абзаца, в котором идёт достаточно сложный, витиеватый ход мысли — и вдруг это увенчивается великолепным разящим афоризмом. Знаете, это похоже больше всего… Ну, он рыбак же всё-таки и вырос в Абхазии, на Чёрном море. Это как долго вываживают рыбу, а потом мгновенно подсекают. Вот это он умеет делать очень хорошо! И поэтому почти каждый абзац в «Сандро из Чегема» — это долгое петляние мысли, увенчанное разящим и блистательным выводом. Чисто ритмически его проза вот так организована: вываживаем, вываживаем, вываживаем — дёрг! И получается замечательная модель мира, потому что и мысль, в общем, так же развивается, по той же схеме.
И чего ещё нельзя, конечно, отнять у Искандера — это его поразительной горькой трезвости. Вспомните финал «Кроликов и удавов», замечательной повести, где он говорит: «Кажется, задумчивость лучше для кроликов, чем восторг, она способна им помочь. Если им вообще ещё что-нибудь способно помочь…» Кролики вот эти, беззаветно влюблённые в цветную капусту,— как ни странно, это более похожая картина, более похожая модель населения, нежели роскошное «Дерево детства» и роскошная архаика Чика. Конечно, кролики — это правда. Но главная печаль заключается в том, что кроликам, может быть, действительно уже ничто не способно помочь. Понимаете, кролик всегда кролик, даже если он умный, а удав всегда удав — и биологически эта разница, к сожалению, непобедима. Хотя очень бы хотелось верить в возможность кроличьего прозрения.
Очень много меня спрашивают, какие тексты Искандера я рекомендовал бы в первую очередь. Конечно, «Стоянку человека». Понимаете, «Сандро из Чегема» прочесть — это три тома, это всё-таки серьёзный объёмный роман. Роман, конечно, такого же масштаба (я убеждён), что и «Уленшпигель». «Уленшпигеля» я больше люблю только потому, что раньше прочёл, но это выдающаяся книга, конечно. Целиком «Сандро» прочитать довольно сложно. Но думаю, что во всяком случае прочесть оттуда «Джамхух — Сын Оленя» полезно будет весьма всем.