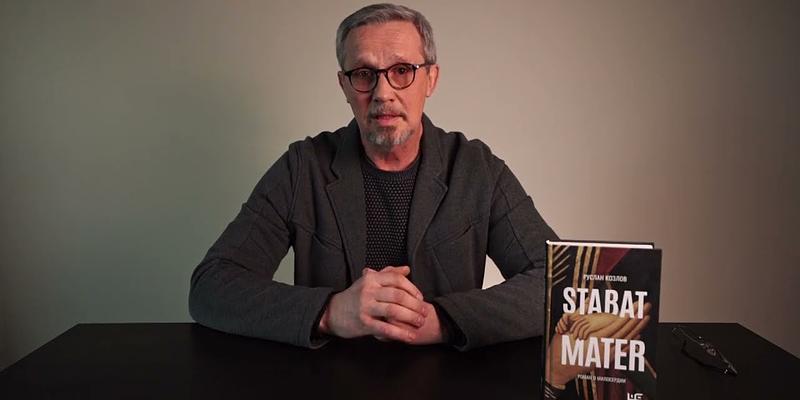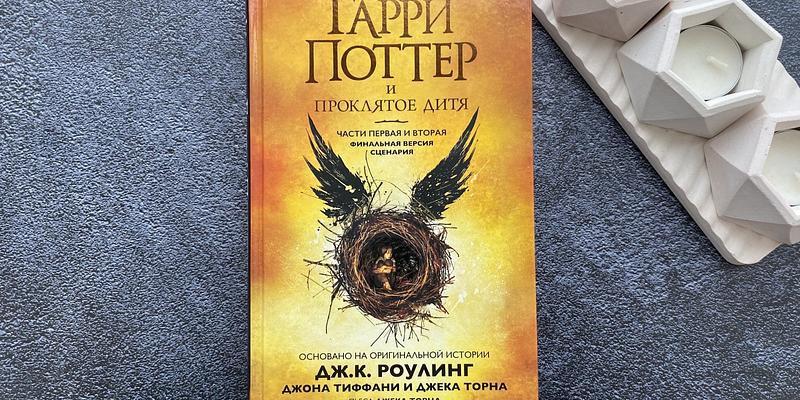Вопрос о свободе воли встаёт всякий раз, когда мы задумываемся, где собственное Я, где оно находится. Неслучайно различают интеллектуальное, духовное и душевное. Неслучайно штейнерианцы разделяют тонкое тело, по-моему, толстое тело, ещё какое-то тело. Это даёт повод для бесчисленных спекуляций. Понимаете, мы же не контролируем очень многие процессы, в нас происходящие, поэтому мне кажется, что действительно говорить о свободе воли мы можем не до конца. Мы не всегда знаем, чем мы детерминированы.
Я, например, в силу достаточно глубокого самонаблюдения (а у меня есть опыт такого самонаблюдения — верьте, не верьте, но есть) могу сказать, что моё Я бессмертно, поэтому оно сильно отличается и от мозга, и от ума, и от тела. Вот это то, что моя первая жена — кстати, очень хороший биолог — Надя Гурская в наших долгих спорах называла понятием «светящаяся точка». Эта светящаяся точка во мне есть. Но ни Тимофееву-Ресовскому, ни Надьке, ни её семье никогда это не мешало верить. Именно их принадлежность к числу докторов биологических наук. Это именно навык глубокого самонаблюдения. Я думаю, что «душа», «мозг» и «Я» — это разные понятия, и они нуждаются в уточнении.
Я, кстати, о многих таких вещах говорил с разными людьми. Я, помню, говорил с Синявским, который тоже говорил, что чувствует всегда в себе это Я, но совершенно не уверен, что это Я после смерти сохранит память. «А если нет, тогда зачем мне бессмертие,— спрашивал он,— если это Я присоединится к мировой душе?» Я думаю, что просто при достаточно глубоком уровне самонаблюдения человек понимает, что в нём смертно, а что бессмертно. Я попытался своё мнение об этом как-то выразить в «Квартале», где герой-повествователь говорит: «Ведь мы не можем говорить о бессмертии души. Это тавтология, потому что душа — это и есть то, что бессмертно». Другое дело, что она не у всех есть. Да, это может быть. Но её можно отрастить как-то.
Я знаю, что очень многие сейчас скажут: «Всё, больше я Быкова не слушаю! Потому что, во-первых, Быков советофил, а во-вторых — православнутый». Ребята, ну что ж я могу сделать? Ну не слушайте! Я не знаю, как мне это пережить. Ну не слушайте! Когда-то Серёжа Доренко, Сергей Леонидович (тогда он был для меня Серёжа), очень хорошо сказал: «Я умножаю количество любви в мире. Одни любят меня любить, другие любят меня ненавидеть». Так что не думаю, что вам так-то уж легко будет соскочить с моей «иглы».