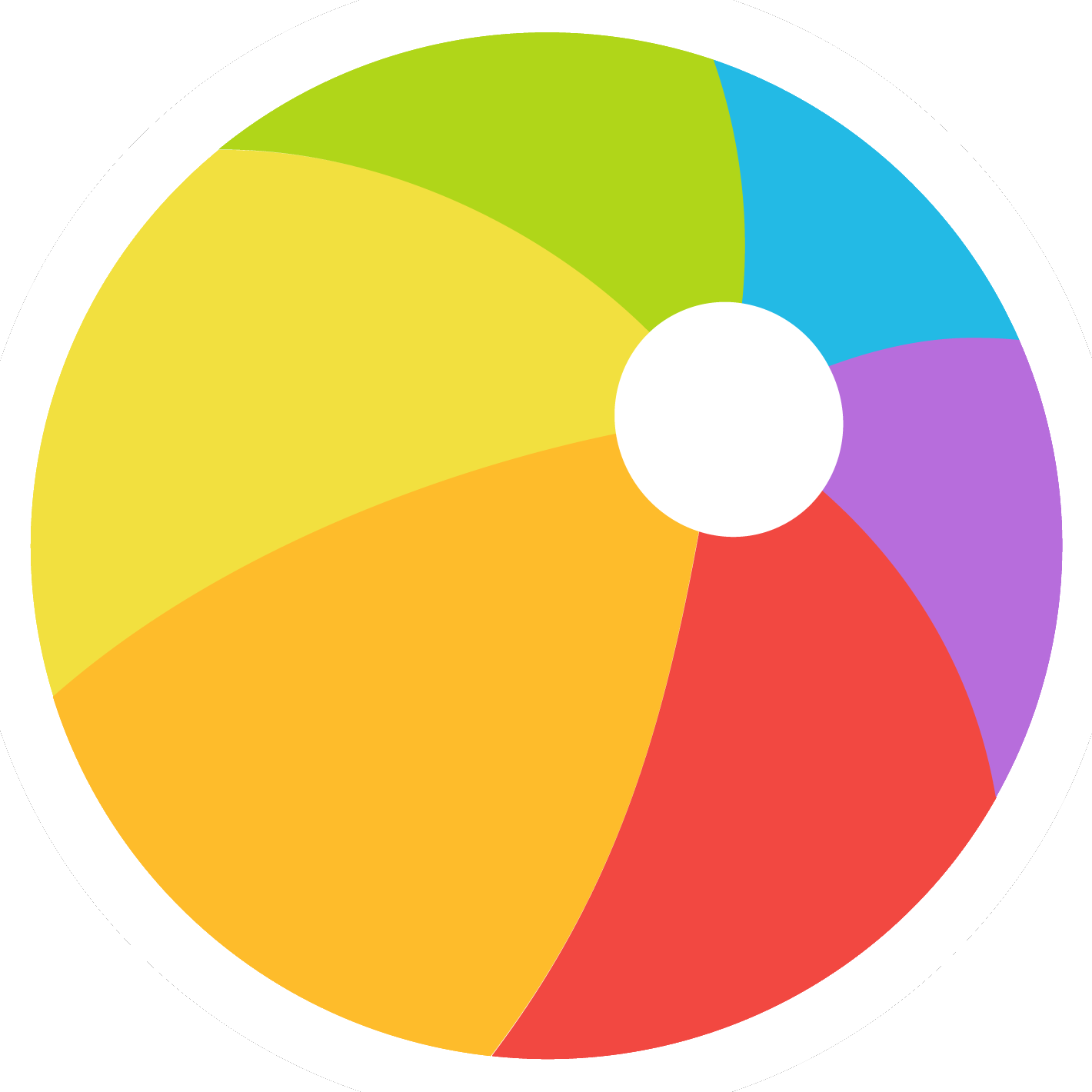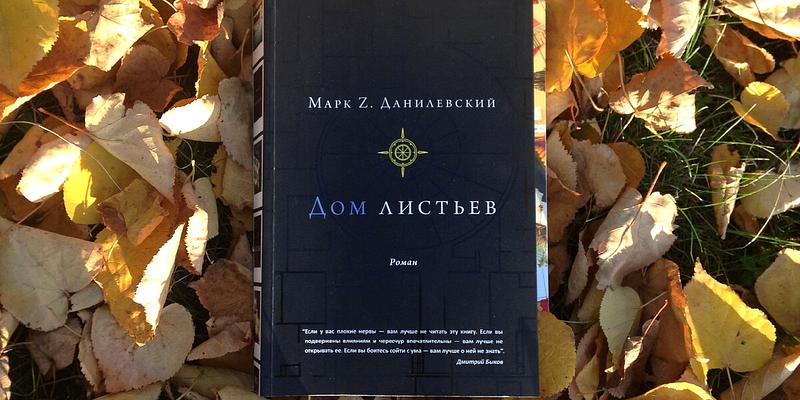Ну, во всяком случае «Сто дней до приказа», особенно когда был напечатан ещё первый фрагмент (целиком повесть лежала два года), мне это даже нравилось, там была какая-то точность. В принципе же, Юрий Поляков — это поразительный пример того, как талант (не знаю, большой ли, но талант безусловный) себя погубил. У него была вещь, которая мне нравится до сих пор — «Апофегей». И нравится не только из-за тогдашней моей подростковой сексуальности, а нравится она мне из-за того, что Надя там была прелестный образ, один из самых удачных образов в позднесоветской литературе. А вот дальше, когда он написал «Парижскую любовь Кости Гуманкова», следующую вещь, я уже понял, что это никуда, то есть это самоповтор, тупик. Дальше пошло все больше опошления. Ну и какой-то такой, понимаете, азарт, типа «не доставайся же ты никому!». «Вот раз у меня не получилось, так я и климат в литературе сделаю невыносимым». Какой-то азарт самопогубления.
Что произошло? В какой момент? Ну, тут надо, наверное, спрашивать покойного Климонтовича, который так сильно, так выразительно изобразил его в «Последней газете» под именем Сандро Куликова — один из самых безжалостных портретов в литературе. Ну, может быть, это и не его портрет. Может быть, это образ такой собирательный. Я могу сказать одно. Сейчас, мне кажется, это человек, для которого уже нет путей спасения. И надо просто с таким, ну, сознанием божьего величия смотреть на то, как Господь разделывается с человеком, предавшим себя.