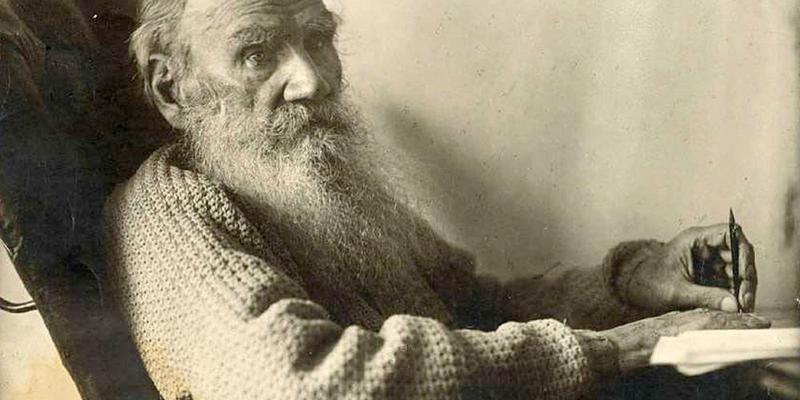Это огромная тема, начиная с Гарриет Бичер-Стоу и заканчивая Болдуином. И может быть, даже, не заканчивая. В конце концов, это проблема, которая до нашего времени не покинула американскую литературу. Такой довольно серьезный общенациональный комплекс вины. Но для того чтобы об этом серьезно говорить, надо некоторое количество материалов перечитать. Мне представляется, что и русская, и американская литература чрезвычайно серьезно рефлексировали над этой темой, но американцы пошли дальше в том смысле, что они, рискну сказать, показали рабство с обеих сторон. Они показали, что рабство уродует не только хозяев, но оно вносит непоправимые изменения в психику рабов. И вот об этом, пожалуй, «Признания Ната Тернера» — самый радикальный роман Уильяма Стайрона; о том, что происходит с рабом, особенно с рабом восстающим.
Видите ли, в России всегда вот эта некрасовская тема:
Люди холопского звания,
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.Люди холопского звания,
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.
Это тема ими всегда подносилась очень половинчато, потому что боялись назвать рабов рабами, боялись назвать холопов холопами. Все-таки рабство и цепь великая — это изображалось как вина хозяев. А как трагедия рабов, как их перерождение — считалось, что если поставить раба в условия свободы и гармонии, то тут он сам и освободиться. А вот что у него стокгольмский синдром начнется, что он обратно в рабство захочет, что оно для него чрезвычайно комфортно,— об этом один Чехов рискнул говорить довольно прямо. Помните, когда Фирс говорит: «Вот так же филин кричал перед бедой».— «Перед какой бедой?» — «Перед волей».
Рабство, которое въелось в кровь, которое стало комфортным,— эта тема гораздо менее упоминаема. Она существует, но она, мне кажется, по-настоящему не отрефлексирована, не исследована. Возьмем некрасовского «Последыша», мое любимое сочинение, одна из частей «Кому на Руси…». Там, где вынужден один из крестьян имитировать, разыграть рабство перед параличным помещиком. Ему нельзя сказать про волю — он немедленно помрет. Он приказал высечь одного из крестьян своих, высечь на конюшне. Ему говорят: «Мы тебе поставим выпивку, закуску, а ты кричи: мы будем изображать, что тебя бьем». Он изображал, кричал, пришел домой и помер. Почему? Потому что иногда имитация сечения оказывается страшнее сечения. Потому что рабство, когда оно уже сброшено, страшнее, возврат его страшен. Можно терпеть рабство, еще не повидав свободы. Но уже попробовав ее, возвращаться в это состояние невыносимо. Кстати говоря, поэтому многие россияне сегодня впадают в беспросветное отчаяние: потому что рабство, казалось, кончилось.
В 1991 году казалось, что все, что nevermore. А оно оказалось глубже, оно оказалось в крови. Слава богу, что Америка, отменив рабство раз и навсегда, уже никогда к нему не возвращалась. Или возвращалась к другому рабству: к разным вариантам рабства духовного, но никогда — к рабству социальному.
В России возврат к крепостничеству, в том числе и напрямую к крепостничеству колхозному в 30-е годы, ко многим еще формам несвободы,— бывал многажды, отсюда такая безнадежность. После революции вернулась несвобода, после перестройки вернулась несвобода. Видимо, тут что-то гораздо более глубокой, одной отменой крепостного права эта проблема не решается; надо привлекать людей к решению собственной судьбы.