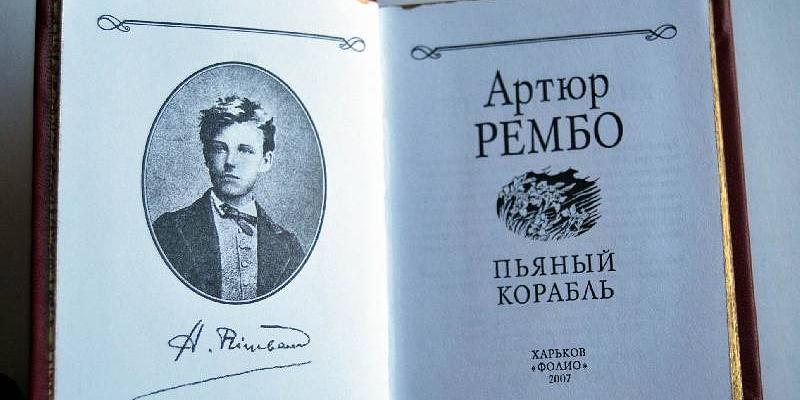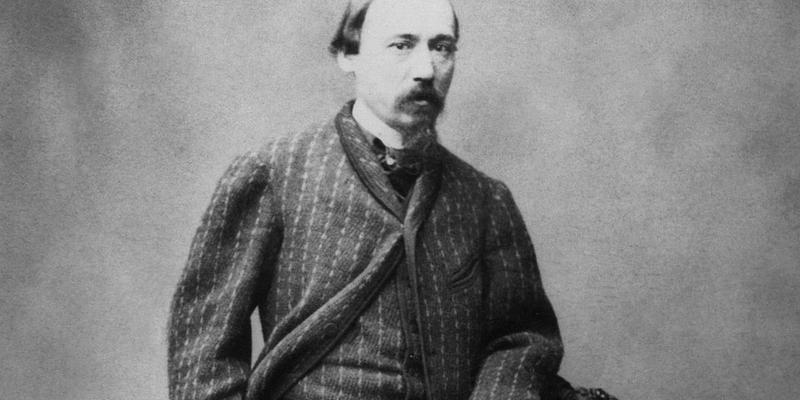Ну, формально говоря, конечно, Мандельштам и Ахматова. Но здесь, так сказать, «матч на первенство в горе», как это называла Лидия Корнеева Чуковская, не уместен. А, скажем, Дементьев. Письмо комсомольцу Дементьеву, который покончил с собой потом. А Багрицкий, который умел, а иначе был бы посажен? А, допустим, Луговской, который подвергался невероятным проработкам, лепил из себя «железного и каменного»? А Павел Васильев, которого расстреляли? А Борис Корнилов, которого расстреляли? А их друг Ярослав Смеляков, которого посадили? И трижды сажали, и он переродился абсолютно, а был блестящим поэтом.
Понимаете, какая вещь? Я пытался написать в «Тринадцатом апостоле» Мало кто обратил внимание там на главу «Наследники», хотя она очень для меня важная. Для Маяковского очень важна была тема интимного переживания любви к Родине. Родина для него — страна-подросток. Родина для него — и возлюбленная, и ребенок. Родина для него — человек. И вот эта попытка интимного проживания патриотизма была наиболее ненавистна Сталину. И Ахматова стала объектом такой травли (там с Зощенко своя история) именно потому, что Ахматова (и это заметил ещё Недоброво) вытаскивает интимное на уровень всечеловеческого и, наоборот, всечеловеческое пытается осмыслить как интимное.
Никто не имел права на интимность в отношениях с Родиной. Единственный муж Родины был Сталин, и он страшно ревновал, дико. Именно поэтому роман Авдеенко «Государство — это я» был подвергнут травле ещё, так сказать, ещё на стадии писания, потому что Авдеенко, в романе «Я люблю» в частности, он пытался пережить, пусть в не очень качественной прозе, но пытался пережить любовь к Родине как личное, глубоко интимное, родное, природное состояние. А нужен был официоз и страх, потому что Родина нам не для того, чтобы её любить, а она для того, чтобы жизнь за нее отдавать.
Интимное проживание этого чувства ненадолго вернулось опять во время войны, и тогда Родина приблизилась к человеку. И тогда Симонов написал не о великой масштабной Родине, а написал: «Клочок земли, припавший к трем березам», «Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать». Во время войны оказалось, что интимное важнее государственного, и поэтому «Жди меня» стало гимном Победы, а вовсе не всякие железные громыхания Суркова, типа «Смелого пуля боится, смелого штык не берет». Вот это оказалось вечным.
Поэтому мне кажется, что главные наследники Маяковского и главные травимые поэты тридцатых годов — это поэты, проживавшие отношение к Родине интимно. Это Шевцов Александр — самый из них талантливый, мне кажется, автор единственной книжки «Голос», которого расстреляли по идиотскому обвинению, а редактором этой книги был Багрицкий. Мне кажется, что эти его удивительно свежие, и молодые, и ясные, и они обещали великий талант. Он был студент литинститута.
Это, мне кажется, Светлов, которого после двадцать восьмого года травили беспрерывно и дотравили до того, что настоящие стихи у него возвращаются только во время войны. Это, конечно, Сева Багрицкий, на этой войне убитый, наследник лучших качеств отца.
И это Сергей Чекмарев, который писал стихи настолько современные, во всяком случае в контексте шестидесятых годов, когда его собственно и открыли, и когда Светлов написал предисловие к нему, и его стали читать и знать. Сергей Чекмарев то ли погиб от несчастного случая, то ли был убит кулаками. Вот из всех поэтов тридцатых годов это мой самый любимый. И мне кажется, что он самый обреченный — и благодаря невероятной человечности своих стихов, и их высокой культуре, и благодаря иронии, которая была тоже тяжким грехом.
Вот грех сказать, я Чекмарева люблю больше, чем Корнилова, больше, чем даже Васильева, хотя Васильев — поэт со всеми чертами гения, но и с чертами довольно опасного расчеловечивания, как мне кажется. А вот Корнилов — нет. Корнилов в меру ироничен, он не такой эпик, и он более самоироничен. У Васильева, мне кажется, есть все-таки некоторый культ собственной личности, который исчезает только в самых поздних стихах — например, в гениальном «Прощании с друзьями». Великое стихотворение! Но вот Чекмарев мне ближе. И я всем рекомендую стихотворение, скажем, «Размышления на станции Карталы»:
И вот я, поэт, почитатель Фета
Вхожу на станцию Карталы,
Открываю двери буфета
Молча разглядываю столы.
Поезд стоит усталый, рыжий,
Напоминающий лису.
Я подхожу к нему поближе,
Прямо к самому колесу.
Ну, я очень люблю эти стихи. Он вообще потрясающий поэт.
Ты думаешь; «Письма
В реке утонули»,
А наше суровое
Время не терпит.
Его погубили
Бандитские пули.
Его затоптали
Уральские степи…
Лишь поезд проносится
Ночью безвестной.
И где похоронен он —
Неизвестно…
Совершенно гениальные стихи. Я много довольно помню из Чекмарева. Вот кого я люблю. Я очень люблю эту ироническую версию в русской поэзии и в советской, и не просто ироническую струю, эту линию, а ещё и интимное отношение к Родине, понимание её как родной, как своей, а не как какого-то… Как Смеляков написал: «И сам я от этой работы железным и каменным стал». Ну, он стал, но голос-то пропал на этом. Понимаете? «Чугунный голос, нежный голос мой» — это уже не голос Смелякова, а это голос эпохи, внушенной ему. А для меня, конечно, настоящий Смеляков — это Смеляков «Если я заболею», написанного в тридцатые годы, что очень важно.